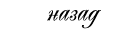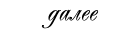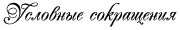А.К. ТОЛСТОЙ. С. А. Миллер
С. А. Миллер
(Перевод с французского)
6 октября 1856 г., Петербург.
...Знаешь,— хотя это приятно и хорошо, но мне часто мешает легкость, с которой мне дается стихотворство; когда я что-нибудь пишу, у меня всегда складываются 3—4 редакции той же мысли, той же картины, и мне нужно было бы свежее ухо, чтобы выбрать одну из редакций той же самой вещи,— и чем больше мне нравится мысль или картина, тем более я ее меняю и исправляю, так что иногда теряю чутье суждения.
Сегодня с утра я уже переменял и изменял «Ветку акации» так много, что я уже не знаю, что надо оставить и что надо выбросить из разных вариаций, которые я написал;1 когда лист бумаги исписан и весь перечеркнут, я переписываю заново, начисто, и через несколько времени новый лист так же перемаран и перечеркнут, как первый...
...У меня есть еще несколько вещей, относящихся к Крыму, которые я начал во время нашего путешествия. Одни хорошие, другие слабые, но они все добавляют цельность картины, и оттого я не решаюсь их уничтожить...
Я уже лег было и читал спокойно повесть Тургенева2, но мне опять захотелось тебе писать... Я ощущаю такую потребность говорить с тобой о искусстве, о поэзии, поделиться с тобой всеми моими мыслями и теориями о искусстве, которые движутся в моем воображении.
Все это я чувствую ясно, но не умею ясно выразить; знаешь, что я тебе говорил про стихи, витающие в воздухе, и что достаточно их ухватить за один волос, чтобы привлечь их из первобытного мира в наш мир... Мне кажется, это также относится к музыке, к скульптуре, к живописи.
Мне кажется, что часто, ухватившись за маленький волосок этого древнего творчества, мы неловко дергаем, и в руке у нас остается нечто разорванное или искалеченное или изуродованное, и тогда мы дергаем и дергаем снова обрывок за обрывком, а потом пытаемся склеить их вместе или то, чего недостает, заменяем собственными измышлениями, подправляем то, что сами напортили своей неловкостью, и отсюда — наша неуверенность и наши недостатки, оскорбляющие художественный инстинкт... Чтобы не портить и не губить то, что мы хотим внести в наш мир, нужны либо очень зоркий взгляд, либо совершенно полная отрешенность от внешних влияний, великая тишина вокруг нас самих и сосредоточенное внимание, или же любовь, подобная моей, но свободная от скорби и тревог3.
Тургенев написал повесть, которую я тебе пришлю и задача которой мне кажется легче исполнения; говорится в ней о женщине 28 лет, богато одаренной природой, но которая из-за своего воспитания жила всегда далеко от всякого художественного занятия и всякого чтения, возбуждающего воображение, и которой в 28 лет читают в первый раз «Фауста», о котором она никогда ничего не слыхала и никакого понятия не имела, так же как и о Гёте.
...Я не знаю еще, чем это кончится, но развитие ее врожденных артистических чувств, которые вдруг просыпаются, довольно слабо описано...
Повесть Тургенева... вроде его апельсина в «Трех встречах».
Ты не знаешь, как хорошо я себя чувствую, как хорошо любится и разные вещи пишутся.
Я начал одну вещь, в которой я говорил об óбразах, витающих в воздухе...4
Очень странно развивать теорию в стихах, но я думаю, что это мне удастся.
Так как этот сюжет требует много анализа, я выбрал гекзаметр — самые легкие стихи... а вместе с тем это стихотворение дает мне много труда,— так легко впасть в педантизм.
Неужто я себя чувствую больше поэтом и художником с тех пор, как я ношу платье антихудожественное и антипоэтическое?
КОММЕНТАРИИ:
К письму А.К. Толстого «С. А. Миллер. 6 октября 1856 г.»
Толстая Софья Андреевна (рожд. Бахметева, по первому мужу Миллер, ум. в 1892 г.).
1 Известны четыре автографа этого стихотворения («Ты помнишь ли вечер, как море шумело…») — ПД.
2 «Фауст» (С, 1856, № 10).
3 Этот абзац приведен в книге Лиронделя (стр. 490) по автографу.
4 Стихотворение «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель…».