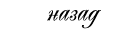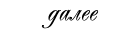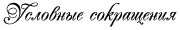А.К. ТОЛСТОЙ. Б. М. Маркевичу
Б. М. Маркевичу
(Перевод с французского)
Париж, 1-го апреля н.с. 1860.
Дорогой друг, благодарю Вас за письмо, доставившее мне,— скажу без всякой лести,— большое удовольствие, так как оно напомнило мне времена, о которых я люблю вспоминать, а именно — дни, так славно проведенные нами в Пустыньке. Куда менее приятно мне думать о Шестилавочной1, которая, относясь уже к Петербургу, вспоминается мне как нечто холодное и вместе с тем душное. Так как я не очень скоро собираюсь кончить это письмо, то откладываю на его конец ответ m-lle Тютчевой по поводу ее поручения, так как — насколько это возможно — хочу разговаривать с Вами только о приятных вещах. Начнем с литературы. Я бы очень хотел прочитать Вашу комедию2, и было бы премило, если бы Вы ее прислали с кем-нибудь, кто поедет в эти края. Что касается меня, то я закончил вторую часть моего романа «Серебряный», но, как оказывается, эта вторая часть более отделана, чем первая, а значит, надо заняться его стилем в целом, чтобы сделать более ровным. Что же до содержания, то для него имелся план, сложившийся и даже записанный с самого начала, благодаря чему вторая часть составляет совершенно единое целое с первой. Я, когда писал, старался забыть, что существует цензура, и дал себе полную волю; как романист (речь ведь идет не о папе), я руководствовался заветом: делай, как надлежит, и пусть будет, что будет. Забавно было бы, если бы цензура ко мне придралась и встала бы на защиту Ивана Васильевича3, но в конце-то концов нет ничего невозможного за пределами чистой математики, это Араго сказал, а к тому же — цензура склонна к переменам, и безумен, кто вверится ей. Это слова то ли Франциска I, то ли Верди4. Как бы то ни было, роман окончен, и мне кажется, что я был добросовестен, как только мог, хотя, правда, и позволил себе один анахронизм: Вяземского я подверг казни на пять лет раньше, чем его на самом деле казнили. Не правда ли, это не беда? Ведь Эгмонту Гёте отрезал же голову на двадцать лет раньше срока5. Кроме того, я писал и переделывал драму «Дон Жуан», которая вообще понравилась. Я два раза читал ее Боткину и один раз Крузе, которые одобрили ее. Я заказал одному дьячку переписать ее и пошлю ее величеству императрице, не знаю уж каким образом узнавшей о существовании драмы. Мне было бы чрезвычайно приятно, если бы Вы ознакомились с нею, и Вы это сможете сделать через посредство m-lle Тютчевой. Драма будет посвящена памяти Моцарта и Гофмана, который первым увидел в дон Жуане искателя идеала, а не простого гуляку6. Там только два главных действующих лица — дон Жуан и донна Анна, а затем нечто вроде хора, состоящего из сатаны и ангелов. Я воспользовался севильской легендой. Вам, вероятно, известно, что дон Жуан похоронен в одном из монастырей этого города и что умер он, исполненный благочестия. Драма не предназначена для сцены, но с легкими переделками ее можно было бы ставить и на театре. Я перепишу для Вас все пять или шесть стихотворений, переведенных мной из Андре Шенье, и буду счастлив увидеть их напечатанными в Вашем сборнике. Пачку стихотворений я послал Аксакову и Погодину для «Беседы» и для «Утра». Так как «Беседа» скончалась, то я и не знаю, что сталось со стихами, предназначавшимися для нее, а что до «Утра», то я никогда его не видел7. Проект Вашего сборника навел меня на благую мысль: в настоящее время я не намереваюсь писать что-нибудь свое — так раздобуду Шенье и попытаюсь кое-что перевести8. Временами для меня истинное наслаждение — переводить Шенье, наслаждение физическое и пластическое, наслаждение формой, позволяющее отдаваться исключительно музыке стиха, как если бы я отправился смотреть Венеру Милосскую, что я и делаю порой, или же как будто я слушаю «Орфея» Глюка, что я делаю тоже и довольно часто. Отвлекаясь от мира древности, поговорю с Вами о спиритизме. Известно ли Вам, что, помимо ряда серьезных и больших трудов, появившихся в защиту или в опровержение духов, здесь составилось и целое Общество, вызывающее духов и приводящее в систему все их сообщения. У этого Общества есть свой статут и свои правила, и председателем в нем — человек вполне уважаемый, по имени Аллан Кардек. Оно выпускает журнал, на который, как Вы можете себе представить, я подписался. На собрания Общества допускаются посетители, и если я там еще не побывал, то потому, что хочу сперва прочитать все, к этому относящееся. Я уже совершенно удостоверился в их чистосердечии, по есть в их воззрениях и такие вещи, которые слишком уж противоречат моим взглядам на мир бестелесный, как, например, опубликование рисунка дома, в котором Моцарт обитает на Сатурне. Если отбросить столь ребяческую дребедень, есть там вещи весьма занимательные и весьма правдоподобные. Примечательно то, что духи, посещающие Общество, чрезвычайно нравственны и религиозны; тех же, что относятся к разряду менее благопристойному, немедленно отсылают. Особенно часто их навещает св. Людовик. Вольтер вполне раскаивается в своем былом легкомыслии и во всеуслышание исповедует самого Иисуса Христа. Диоген признает, что был весьма суетен, и сожалеет об этом искренно.
Я получил из Лондона письмо от Юма, который меня приглашает навестить его. Его ребенок обладает уже такой же силой, как он сам, и окружающим уже видны ее проявления. Через несколько дней я туда съезжу — я ведь очень люблю Юма и считаю его человеком славным и порядочным. Где это Вы были, когда Юм приезжал в Пустыньку? Не знаю, каких взглядов Вы держитесь насчет духов, но если Вы и сомневаетесь, то на сей-то раз Вы бы в них поверили, тем более что явления совершились уже после отъезда Юма. О них я говорил и так слишком много, чтобы начинать сызнова, но приведу Вам только некоторые факты, и сделаю это тем охотнее, что это отдалит мои ответ m-lle Тютчевой. Да будет же Вам известно, что платье Софии Андреевны заметно вздулось, что рукава его зашевелились, словно бы от ветра, что сам я почувствовал, как будто детская ручонка дотронулась до моего колена и стала барабанить по бумажнику, а другие слышали этот звук, что стол приподнялся и парил над полом в воздухе, что два тяжелых кресла сами передвинулись с другого конца комнаты к столу, что вечером несколько человек, уже лежа в постели, увидели, как одеяла их приподнялись и надулись воздухом при полном отсутствии сквозняка.
Установив все сие касательно духов, вот что я могу теперь ответить m-lle Тютчевой: каждая личность призвана действовать в пределах своих дарований, как их называет Купер, говоря о Дирслеере9. Есть вещи, до такой степени находящиеся за пределами дарований некоторых личностей, что речь может идти даже не о том, чтобы преодолеть свое отвращение, а просто-напросто о возможности или невозможности. Тут никто не может быть судьей, кроме человека, которого призывают действовать,— при условии, что это будет человек искренний и что решение он примет не иначе, как попробовав свои силы. Что касается меня, то мои силы совершенно парализуются в той сфере, которая имеется в виду. Что это она пишет о моей откровенности, которую сумели оценить! Самое большее, ее иногда терпели, но всегда это оставалось бесплодным. Две линии, из которых одна тянется на запад, а другая на восток,— смогут ли когда-нибудь соединиться? Два человека, из которых один говорит на языке, непонятном другому, смогут ли когда-нибудь понять друг друга? Они, пожалуй, и смогли бы этого достичь, изъясняясь с помощью жестов, но для этого нужна была бы с обеих сторон, по крайней мере, добрая воля. Можно ли рассуждать об отвлеченностях, когда нет единого мнения по поводу а, б, в? Можно ли прийти совместно к какому-либо результату, когда различна не только исходная точка, но и цель? Можно ли договориться, если, например, один из собеседников скажет: «Вот по середине дороги скала, мешающая пройти,— значит, надо убрать скалу»,— а другой ему ответит: «Вот дорога, из-за которой, может быть, придется убрать скалу,— значит, надо закрыть дорогу»? Таковы отношения, в которых я нахожусь с моим собеседником, и даже не совсем таковы, потому что он никогда, никогда не вступал со мной в споры о значении идей, никогда! В его идеях благородство есть, но система его ошибочна, система его не может выдержать проверки спором, я же, действуя по его системе, стал бы лгать самому себе. Я говорю и буду повторять, что готов стать на колени перед тем, кто смог бы носить маску ради достижения благородной цели, что я готов целовать руку тому, кто сделался бы, например, жандармом ради ниспровержения жандармерии, но для этого потребовались бы дарования особенные, которых у меня нет. Хорош бы я был, если бы напялил на себя, к примеру, мундир III Отделения, дабы доказать его нелепость! Да разве есть у меня ловкость, необходимая для этого? Я бы только замарался, никому не принеся пользы. Это — только для примера. Есть положения, которые, хоть в них и нет ничего грязного, тем не менее остаются невозможными для меня, ибо в них все-таки пришлось бы больше или меньше лгать. Говорю это не затем, чтобы похвастаться, отнюдь нет. Я хотел бы уметь лгать, чтобы уничтожить ложь, но у меня нет таких дарований. Говорю Вам, что задыхаюсь в той сфере, буквально задыхаюсь. Предложите-ка Тамберлику петь, стоя по уши в воде. Эта стихия — не для меня, я никогда не мог бы жить в ней; если я в чем виноват, так только в том, что недостаточно решительно объяснился на этот счет, и поверьте мне, что, если бы я от начала до конца высказал свое кредо, меня не только не стали бы удерживать, но еще и плечами пожали бы с презрительным сожалением. А у меня другие дарования, и главная моя ошибка та, что я не отдался им целиком. Как бы то ни было, лучше поздно, чем никогда. Если компромисс возможен, это значит для меня остаться таким, какой я есть, на компромисс я согласился из деликатности, из уважения и, если угодно, из привязанности. Если компромисс мне удастся, я останусь, если же нет — то поступлю иначе, но не так, как представляет себе m-lle Тютчева. Скажите ей это, если увидите ее,— надеюсь, она меня поймет. Если бы мои чувства и мой образ мыслей могли стать известны и выше, я был бы счастлив.
Вчера здесь был парад. Маршировали кое-как, но это не помешало Наполеону сказать войскам несколько милостивых слов и наградить тех, кто этого заслужил. Войскам его присутствие всегда доставляет радость и удовольствие; когда он показывается, то возбуждает чувство благодарности. Наказывать он предоставляет военным начальникам и, ей-богу же, он прав. Но вернемся к литературе. Я ведь спрашивал Вас, мой дорогой Маркевич, когда Вы вернетесь — чтобы попросить Вас, как Вы любезно предлагали мне, заняться изданием книжки моих мелких стихотворений, но с тех пор насочинял еще и других, которые цензуру не проходили и которые мне хотелось бы провести мимо этого нелепо-противного рифа, но, откровенно говоря, переслать Вам тетрадь со стихами мне больше всего помешало то, что я ленюсь переписывать (одна из самых скучных вещей, какие я только знаю). Те, кому я поручал переписку, столько напутали, что я зачастую лишь с трудом узнавал самого себя. Стыдливые опасения Оболенского насчет тургеневской повести меня удивляют. Рискованные места или, вернее, единственное рискованное место, имеющееся там, по-моему, достаточно завуалировано10. Я прочитал сегодня речь графа Панина к депутатам. Она очень хороша, особенно ее конец: «Господа, мои двери вам всегда будут отворены, но, к сожалению, я принимать вас не могу»11. Это напоминает мне, как один начальник, принимая меня и еще несколько человек в комнате, где не было ни одного стула, обратился к нам, делая рукой округлый жест: «Милости просим садиться, господа!»12
Прощайте и до свидания, мой дорогой Маркевич. Вы сделаете мне большое удовольствие, если напишете — по-прежнему в улицу Бальзака № 10. Из Парижа я уеду в конце мая, проедусь по Италии и вернусь в Пустыньку, где надеюсь видеть Вас как можно чаще. Чтобы возбудить в Вас аппетит, скажу, что у нас там будет превосходной работы орган Кавалье Колля (современной знаменитости). Я не теряю надежды найти в Германии einen tüchtigen Organisten, der uns was hübsches aus dem alten Bach vorspielen soll13.
КОММЕНТАРИИ:
К письму А.К. Толстого «Б. М. Маркевичу. 20 марта (1 апреля) 1860 г.»
Впервые: BE, 1895.
Маркевич Болеслав Михайлович (1822—1884), реакционный писатель и публицист, с 60-х годов сотрудник РВ и «Московских ведомостей» Каткова; приятель А. К. Толстого, который, однако, не разделял многих взглядов Маркевича.
1 На Шестилавочной улице (теперь ул. Маяковского) Толстой жил в 1850-х годах.
2 О какой комедии Маркевича идет речь — неясно. Возможно, это водевиль «Первый день брака», напечатанный в «Драматическом сборнике» в 1858 г. (т. 1).
3 Ивана Грозного.
4 Толстой имеет в виду арию герцога «Сердце красавицы склонно к измене...» из оперы Д. Верди «Риголетто».
5 Имеется в виду трагедия Гёте «Эгмонт».
6 В рассказе «Дон Жуан».
7 Что именно отправил Толстой в РВ сверх напечатанного там — неизвестно. Для альманаха «Утро» он послал М. П. Погодину 30 августа 1859 г. переводы стихотворений Байрона («Неспящих солнце! Грустная звезда!..») и Гейне («У моря сижу на утесе крутом…»), но второй сборник альманаха «Утро» вышел только в 1866 г.; переводы впервые опубликованы в изд. 1867 г.
8 Издание сборника не было осуществлено. Кроме переводов шести стихотворений Шенье, напечатанных до этого в БдЧ (1857, № 1), никаких других переводов из Шенье Толстой не сделал.
9 См. прим. 2 к письму С. А. Миллер. 26 августа 1856 г..
10 Речь идет о романе «Накануне» (опубликованном в РВ, 1860, № 1, с подзаголовком «Повесть»). «Рискованное место» — последнее посещение Еленой Инсарова в Москве (гл. 28). Этот эпизод вызвал нападки реакционной печати и обвинения Елены в безнравственности. См., например, «Наше время», 1860, № 13 (Русская женщина, «Елена Николаевна Стахова») и № 17 (передовая статья Н. Ф. Павлова).
11 Эта речь председателя редакционных комиссии В. Н. Панина к депутатам губернских комитетов, произнесенная 24 февраля, была впервые опубликована в соответствующим образом препарированном виде в «Колоколе» (л. 68—69), который вышел за десять дней до написания настоящего письма. В «Колоколе» читаем: «Дверь моя вам всегда открыта, для всех и каждого, но я прошу вас не посещать меня, чтобы не дать повод к толкам, что я нахожусь под влиянием того или другого». Толстой мог познакомиться с речью только по «Колоколу», так как следующая ее полная публикация была осуществлена в книге «Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России...», т. 2, Берлин 1861.
12 В связи с приемом депутатов о Панине в Петербурге «рассказывали много анекдотов», между прочим и то, что «будто Папин велел вынести все стулья из приемной залы и не топить ее несколько дней» (там же, стр. 436).
13 искусного органиста, который сыграет нам что-нибудь хорошее из старика Баха (нем.).