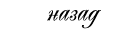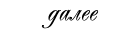Д.А. Жуков «Алексей Константинович Толстой»
Глава девятая
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
Говорят, чужая душа - потемки. А у Толстого она светлая, прозрачная, как воздух в погожее утро. Были люди, и великие люди, заботившиеся о том, что будут писать о них биографы и говорить потомки, и потому предупредительно создававшие собственный образ, ограничивая порой себя в высказываниях, чтобы не нарушать цельной картины, которая так удобно вписывается в соответствующую эпоху. А у этого что на уме, то и на языке. Рубил сплеча Алексей Константинович в своих писаниях, оставаясь в личном общении добрым, сильным, располагающим к себе человеком. «Поэт-богатырь», иногда говорили о нем, подразумевая не только то, что он любил слово «богатырь» и не раз делал героями своих баллад легендарных русских богатырей, но и ум, страсть, благородство побуждений, прямоту высказываний и поэтическую силу.
«Когда я смотрю на себя со стороны (что весьма трудно), то, кажется, могу охарактеризовать свое творчество в поэзии как мажорное, что резко отличается от преобладающего минорного тона наших русских поэтов, за исключением Пушкина, который решительно мажорен».
Пушкин считал национальным признаком русских «веселое лукавство ума». Алексей Константинович Толстой обладал этим качеством в полной мере. Было бы кстати вспомнить здесь о «Нравоучительных четверостишиях» Языкова, которые, как считают, были им написаны вместе с Пушкиным. Они кажутся совсем «прутковскими». Вот, например, «Закон природы»:
Фиалка в воздухе свой аромат пила,
А волк злодействовал в пасущемся народе;
Он кровожаден был, фиалочка мила:
Всяк следует своей природе.
«Нравоучительные четверостишия» были задуманы как пародии на дидактические стихотворения И. И. Дмитриева, но об этом вспоминают лишь в примечаниях - стихи живут собственной жизнью уже более ста пятидесяти лет.
Алексей Толстой молился на Пушкина. Издания стихотворений великого поэта он испещрял своими пометками, любовно следя за всеми оттенками пушкинской мысли, восторгаясь пушкинской рифмой. Иногда он позволял себе делать шутливые дополнения к стихам Пушкина или комментарии к ним.
Так в «Анчаре» после стихов:
А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы...
Толстой вспоминает:
Тургенев, ныне поседелый,
Нам это, взвизгивая смело,
В задорной юности читал.
Толстой улыбался пристрастию молодого Пушкина к «Вакху, харитам, томным урнам...». Некоторые дополнения Толстого полны озорства. Так, под «Царскосельской статуей»
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой:
Дева над вечной струей вечно печальна сидит.
Толстой пишет:
Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский,
В урне той дно просверлив, воду провел чрез нее.
Бьющее через край озорство слышится в четверостишиях-советах, которые Толстой собрал под общим заглавием «Мудрость жизни».
Самые смешные, самые лихие стихотворения Толстого всегда содержат зерно неожиданного глубокомыслия, которое, вызвав смех, заставляет задумываться. Вот, казалось бы, всего лишь баллада о нелепом всепрощении:
Вонзил кинжал убийца нечестивый
В грудь Деларю.
Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:
«Благодарю»...
А философ Владимир Соловьев, начав в своих «Трех разговорах» с шутливого разбор ее, написал едва ли не целый трактат о том, что носители зла завидуют недостижимой для них бездонности и простой серьезности доброты, что зло ничего не может поделать с добротой - она для него непроницаема...
Но если бы стихотворения, исторические баллады, трагедии Толстого были бы исполнены лишь юмора или романтических чувств, пластичности образов, живописности, то, наверно, справедливо было бы суждение Чехова, сказавшего Бунину: «Послушайте, а стихи Алексея Толстого вы любите? Вот, по-моему, актер! Как надел в молодости оперный костюм, так на всю жизнь и остался». Чехов подметил только блеск и красоту антуража толстовских произведений, благородство героев, «непринужденность выражений» и «молодечество», как говаривал поэт о некоторых своих вещах, но совершенно упустил из виду то, что по духу ему было бы ближе, припомни он в ту минуту «прутковщину» и сатиры поэта. И уж больно разительно отличался чеховский творческий метод от толстовского в приземленности своей. Чехов брал героев из самой что ни на есть обыденной среды и поглядывал на Толстого с позиций прирожденного демократа. Могло сказаться и распространенное к тому времени пренебрежительное мнение о человеке, не иначе, как с насмешкой произносившего слово «прогресс».
Еще во время встречи Толстого с Тургеневым, Герценом и другими на острове Уайте велись разговоры о «Современнике» и причинах разногласий с редакцией журнала. Тогда-то и зародился у Тургенева план романа «Отцы и дети».
Хотя Тургенев старался быть беспристрастным к «нигилистам», роман вызвал бурю. Уже не было в «Современнике» Чернышевского и Добролюбова, но заменившие их «семинаристы» в лице Антоновича шумно бранили Тургенева за «чистую клевету на литературное направление», что окончательно поссорило романиста с Некрасовым. Антонович подхватил упомянутое Тургеневым слово «нигилист» и пустил его в оборот. Салтыков-Щедрин трактовал Базарова как «хвастунишку и болтунишку, да вдобавок еще из проходимцев». Писареву Базаров представился блестящим художественным воплощением лучших стремлений и симпатий молодого поколения.
В письме к жене в декабре 1872 года Алексей Толстой сообщал, что перечитывает «Отцов и детей».
«Я не могу сказать тебе, с каким неожиданным удовольствием я это читаю.
Какие звери - те, которые обиделись на Базарова!
Они должны были бы поставить свечку Тургеневу за то, что он выставил их в таком прекрасном виде. Если бы я встретился с Базаровым, я уверен, что мы стали бы друзьями, несмотря на то, что мы продолжали бы спорить».
Это письмо многое раскрывает в очень своеобразном и сложном характере Алексея Константиновича Толстого.
Вспомним, когда родилось его стихотворение «Пантелей-целитель», в котором он открыто заявил о своем неприязненном отношении к части русской журналистики.
Они звона не терпят гуслярного,
Подавай им товара базарного!
Все, чего им не взвесить, не смеряти,
Все, кричат они, надо похерити;
Только то, говорят, и действительно,
Что для нашего тела чувствительно...
Оно появилось в «Русском вестнике» в 1866 году. Но почему же не раньше?
Острое чувство справедливости заставило Толстого вступиться за Чернышевского перед самим царем. Он питал уважение к мужественной борьбе Добролюбова и Чернышевского.
Иначе воспринимал Толстой тех, кого Бакунин назвал «недоученными учениками Чернышевского и Добролюбова». Знаменитый анархист в том же 1866 году советовал Герцену, тоже не нашедшему общего языка с молодыми нигилистами, искать себе читателей и среди них, людей очень энергичных.
В демократической журналистике усилилась разноголосица, вызванная идейным разбродом. Некоторые в своей пропаганде естественнонаучного материализма доходили до вульгарности, в критике дворянской литературы - до нелепостей. Особенно раздражал Толстого безапелляционный тон, в котором выражались мнения.
В письме к де Губернатису он писал:
«Что касается нравственного направления моих произведений, то могу охарактеризовать его, с одной стороны, как отвращение к произволу, с другой, к ложному либерализму, стремящемуся возвысить то, что низко, но унизить высокое. Впрочем, я полагаю, что оба эти отвращения сводятся к одному: ненависти к деспотизму, в какой бы форме он ни проявлялся. Могу прибавить к этому ненависть к педантической пошлости наших так называемых прогрессистов с их проповедью утилитаризма в поэзии».
И там же добавил: «Любопытен, кроме всего прочего, тот факт, что в то время как журналы клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня революционером».
Мнение «властей» часто выражалось в цензурных запретах печатать стихи Толстого, провинциальным театрам категорически отказывали в разрешении ставить его пьесы. В то же время журналисты, возмущенные его антинигилистическими стихотворениями, распространяли свой гнев на все его творчество.
Видя одной из главных задач защиту свободного волеизъявления художника от диктата нигилистов1, он провозглашал:
Правда все та же! Средь мрака ненастного
Верьте чудесной звезде вдохновения,
Дружно гребите, во имя прекрасного,
Против течения!
Но когда он читал это стихотворение молодежной аудитории, она воспринимала его как призыв к борьбе против «мрака ненастного» существовавших порядков и восторженно аплодировала.
«В Потоке-богатыре», переносясь от времен князя Владимира во времена поближе, его герой видит самодержца, который как «хан на Руси своеволит», а еще позже - галдящую толпу остриженных девиц в сюртуках, аптекаря, провозглашающего, «что, мол, нету души, а одна только плоть и что если и впрямь существует господь, то он только есть вид кислорода». А это уже прямо перекликается с прутковским «Церемониалом».
В спорах демократического лагеря о будущности России очень часто высказывались вульгарные мнения о полном уничтожении семьи, государства, искусства, о торжестве рационализма, что давало Толстому с его, как он говорил, «шишкой драчливости» обильную пищу для насмешек. В сатире «Порой веселой мая...» у него сад цветущий собираются засеять репой, соловьев истребить за бесполезность. Междоусобица в демократическом стане породила злые слова о грызущихся толпах «демагогов» и «анархистов», согласных лишь в том, что всеобщее благоденствие наступит, как только все будет отнято, а потом поделено. И Толстой предлагал в шутку средство борьбы с ними:
Чтоб русская держава
Спаслась от их затеи,
Повесить Станислава
Всем вожакам на шеи.
И он оказался провидцем в отношении, например, М. А. Антоновича и Ю. Г. Жуковского, которые некогда яростно обвиняли Тургенева в «клевете» на демократическое движение, а потом перешли на государственную службу и дослужились до генеральских чинов.
И еще несколько десятилетий часть тех бывших нигилистов, которые постепенно превратились в либеральных профессоров, никак не могла простить Толстому его насмешек. Злопыхательствующие критики вроде Скабичевского вообще не хотели видеть в нем оригинального поэта и обрушивали свой гнев на все, что когда-либо было им написано.
Когда-то тоже ходивший в нигилистах Н. Котляревский, наоборот, защищал Толстого. Он вполне резонно заметил:
«Толстой стоял не одиноко, когда с опасением следил за развитием ультрарадикальных взглядов и настроений, которые как будто предвещали ну если не конец света, то вихрь отрицания и разрушения. И не одни консерваторы и поклонники уютной косности разделяли с ним эти опасения.
Чтобы верно судить о том положении, какое Толстой занял по отношению к крайним нашим партиям в 60-х годах, надо держать в уме несколько исторических справок; надо вспомнить, например, как Герцен отнесся к «желчевикам» и какие колкости он говорил Чернышевскому...»
Должен ли юмор непременно смешить? Петрушку колотят палкой, и это вызывает смех у непритязательных зрителей. А бывает, что старое привычное вдруг предстает в новом освещении. Свежий насмешливый глаз видит как-то по-иному, и рождается новая мысль, которая на первых порах вызывает не бурный смех, а либо просто радостное ощущение прозрения, либо даже горечь разочарования в привычном. И все же это юмор...
Иные из афоризмов Козьмы Пруткова вызывали смех сто лет назад, другие стали смешными в наше время. Поводы, которые послужили их рождению, давно забыты, но афоризмы зажили собственной жизнью и отличаются завидным долголетием.
В девятнадцатом веке литературные поденщики часто, пользуясь иностранными источниками, перекраивали изречения Паскаля, Ларошфуко, Лихтенберга и других афористов и публиковали их в отечественных газетах и журналах. В свою очередь, Козьма Прутков перекраивал напечатанные афоризмы, но уже на свой лад. «Перерабатывал» он и русских авторов. Он подражал «Историческим афоризмам» Погодина. Он взял выражение из «Капризов и раздумий» Герцена: «Нет такого далекого места, которое не было бы близко откуда-нибудь» и переделал его в свое: «Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да отдален».
Совсем недавно М. И. Привалова исследовала некоторые источники «Мыслей и афоризмов» Пруткова. Она высказала предположение, что многие афоризмы Пруткова родились в результате чтения и переосмысления «Пифагоровых законов» Марешаля.
Пьер-Сильвен Марешаль был участником Великой французской революции. На русский язык «Пифагоровы законы» были переведены еще в начале XIX века В. Со-пиковым. Книга эта немало способствовала пропаганде в России идей буржуазной революции, она обличала самодержавие, крепостничество, церковь. Марешаль говорит: «Порядок да будет твоим божеством! Сама природа через него существует!» Козьма Прутков утверждает: «Человек! Возведи взор твой от земли к небу, - какой, удивления достойный, является там порядок!» Марешаль: «Будь добродетелен, если хочешь быть счастлив». Прутков: «Если хочешь быть счастливым, будь им!» Привалова считает даже, что такая побудительная форма прутковских афоризмов, как: «Бди!», «Козыряй!», возникла из-за того, что Марешаль злоупотреблял повелительным наклонением. Но это предположение весьма сомнительно. Скорее тут сказался самонадеянный характер самого Пруткова, сына своей эпохи.
Интересно другое. Уже советский исследователь В. Сквозников писал о том, что Прутков пародировал мудрость, что это была косвенная реакция на рационализм и что «для людей новой эпохи в афоризмах Пруткова звучит прежде всего здоровая нота - отвращение от абстрактного и самонадеянного мышления».
М. И. Привалова, помня о нападках Алексея Толстого на демократический лагерь, высказала предположение, что отвращение к рационализму Толстой питал задолго до антинигилистических стихотворений. «Скорее всего автором пародийных вариаций на «Пифагоровы законы» Марешаля мог быть А. К. Толстой, которому не могли импонировать взгляды последнего с их анархизмом, грубой уравниловкой и нигилистическим отношением к искусству».
И она приводит слова Марешаля из «Манифеста равных»:
«Мы готовы снести все до основания, лишь бы оно (равенство) осталось у нас. Если надо, пусть погибнут все искусства...»
Авторство афоризмов Козьмы Пруткова тщательно замаскировано, и, по мнению М. И. Приваловой, причину этого надо искать в желании «деликатного» В. М. Жемчужникова, который в восьмидесятые годы не хотел вспоминать «о неблаговидных выпадах покойного А. К. Толстого».
Столь недвусмысленное осуждение взглядов А. К. Толстого, да еще приписываемое В. М. Жемчужникову, требует идейного осмысления их.
Еще в «Манифесте Коммунистической партии» К. Маркс и Ф. Энгельс говорили о том, как буржуазия, достигая господства, разрушает феодальные, патриархальные, идиллические отношения и не оставляет между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана», как она топит в эгоистическом расчете религиозный экстаз, рыцарский энтузиазм, сентиментальность, как она в конечном счете оставляет на месте всех благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли, как она даже поэтов превращает в своих наемных работников...
Позже К. Маркс и Ф. Энгельс же, осуждая крайние формы нигилизма, писали, что «эти всеразрушительные анархисты, которые хотят все привести в состояние аморфности, чтобы установить анархию в области нравственности, доводят до крайности буржуазную безнравственность».
Правильно понять реакцию А. К. Толстого на нигилизм значило бы осознать и некоторые причины появления громадного пласта русской литературы и, в частности, многих произведений Ф. М. Достоевского.
Но послушаем другую сторону. Хотя бы князя В. П. Мещерского, который рассказал, какие дипломатические ходы делал Толстой в 1864 году против М. П. Муравьева, усмирившего польское восстание. Либеральные государственные деятели Валуев и Суворов старались изо всех сил подорвать влияние Муравьева, опиравшегося на завсегдатаев гостиной графини Блудовой, на фрейлину Анну Федоровну Тютчеву, сблизившуюся уже со своим будущим мужем Иваном Аксаковым. Но если либералами руководил расчет «сломить крупную силу независимого государственного деятеля», то «в лице графа Толстого, как пишет Мещерский, было страстное, но честное убеждение человека самых искренних и даже фанатичных, гуманно космополитичных взглядов и стремлений... Его мечты требовали не муравьевской энергии после мятежа, а признания в поляках элементов культуры и европейской цивилизации выше наших; отсюда у него естественно исходило требование гуманности вместо строгости...»
Князь В. П. Мещерский решил, как он выражался, вступить в журналистику «с охранительными боевыми задачами». Аристократ стал выпускать газету «Гражданин», в которой взял на себя неблагодарное дело бороться с монархических позиций против печати демократического и либерального толка.
Но в новых условиях даже сановники предпочитали считаться либералами, и Мещерский вскоре почувствовал, что открыто, по его словам, «быть консерватором значило одно и то же, что быть мошенником». При дворе журналистику не уважали вообще, и царь Александр II однажды пренебрежительно спросил Мещерского: «Ты идешь в писаки?»
Еще только задумывая газету, которую к концу первого года ее существования редактировал Федор Михайлович Достоевский, начавший печатать в ней свой «Дневник писателя», князь Мещерский как-то пытался заручиться сотрудничеством Алексея Константиновича Толстого, хотя знал, что тот «одинаково искренне ненавидел две вещи: службу чиновника и полемику газет и журналов»...
Мещерский долго говорил ему о развращающем влиянии на молодежь существовавших газет и журналов, о «Санкт-Петербургских Ведомостях» Суворина (он в те времена считался «шальным нигилистом») и кончил тем, что изложил свою программу - защищать церковный авторитет, самодержавие и обличать все увлечения либерализмом.
И дальше в воспоминаниях Мещерского можно прочесть признание, которое весьма расширяет наше представление об А. К. Толстом:
«Помню его, с оттенком тонкой насмешливости, пристально в меня устремленный, недоумевающий взгляд, когда я ему говорил о своих журнальных мечтаниях. Взгляд его так ясно и так искренно говорил мне: вот дурак! - что я почти чувствовал себя перед ним сконфуженным.
Да и не по этому одному граф А. К. Толстой относился к моему предприятию со скептицизмом и недоумением. Фанатизм, с которым он оберегал самобытность своего «я», был так силен и глубок, что граф Толстой не причислял себя ни к какому лагерю; он дорожил правом не думать как другие как лучшим благом своей свободы, а так как культ духовной свободы он ставил выше всего, то мне казалось, что он при всей своей оригинальности скорее клонится к либералам, чем в нашу сторону, где он не симпатизировал слишком определенным рамкам верований».
Очевидно, что Мещерский понимал слово «либерал» несколько иначе, чем Толстой. Но главное не в этом. Главное в том, что Толстой не верил в «идеальность консервативных стремлений» Мещерского.
«Он как будто признавал, что перенесенные в область реального, эти идеальные стремления консерватизма обратятся в холопский культ Держимордного кулака и чиновничьего пера...»
«Он скорее... был мыслями с увлекавшимися свободою, чем с теми, которые во имя консервативного культа мечтали эту свободу обуздать. Он отрицал пользу такой узды для самих идеалов и предсказывал, что она будет только на помощь произволу чиновника».
Толстой, как всегда, высказал свое мнение без околичностей. Ко времени этого разговора по рукам ходило уже немало списков сатирических стихотворений, в которых ярко проявилась его способность видеть смешные и нелепые стороны жизни.
В те годы сатира процветала. Редкое из многочисленных изданий не имело специального отдела, где печатались стихи, песни, эпиграммы, в которых затрагивались самые острые проблемы политической жизни. Сатирические журналы во главе с «Искрой» стали общественной силой.
Однако сатиры Толстого в этих изданиях места себе не находили. Он так крепко бил по царской, бюрократической машине, что о прохождении его сатир через цензуру не могло быть и речи. Все они были напечатаны лишь через много лет после его смерти.
Достаточно вспомнить «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева», или стихотворение о китайце Цу-Кин-Цыне, приказавшем высечь совет, или «Бунт в Ватикане»...
Можно было удалить от власти Муравьева-«Вешателя», но на смену ему пришли такие сановники, как П. А. Валуев и А. В. Головин, не скупившиеся на либеральные позы и речи вроде тех, что принимали и произносили министр или полковник Биенинтенсионе в драме Козьмы Пруткова «Министр плодородия» или опять же министр в сатирической поэме Алексея Толстого «Сон Попова»:
Мой идеал полнейшая свобода -
Мне цепь народ - и я слуга народа!
Прошло у нас то время, господа, -
Могу сказать: печальное то время, -
Когда наградой пота и труда
Был произвол. Его мы свергли бремя...
Даже грозное III Отделение переменило стиль и методы работы. Оно сумело из нелепого происшествия - появления чиновника Попова без штанов у министра - извлечь целое дело. Толстой первый в русской литературе заговорил о существовании этого учреждения, о «лазоревом полковнике», вкрадчивой речью вконец запугавшем Попова, который настрочил донос на десятки своих невинных знакомых...
Лев Николаевич Толстой говаривал о «Сне Попова»:
- Ах, какая это милая вещь, вот настоящая сатира и превосходная сатира!
И еще:
- Это бесподобно. Нет, я не могу не прочитать вам этого...
И он мастерски читал поэму, вызывая взрывы смеха у слушателей.
Особенно доставалось в стихах Алексея Толстого председателю Главного управления по делам печати Михаилу Лонгинову и члену совета того же управления Феофилу Толстому, чью предательскую казуистику поэт высмеивал в своих посланиях, закончив одно из них издевательской цитатой из Козьмы Пруткова:
Нам не понять высоких мер,
Творцом внушаемых вельможам,
Мы из истории пример
На этот случай выбрать можем:
Перед Шуваловым свой стяг
Склонял великий Ломоносов -
Я ж друг властей и вечный враг
Так называемых вопросов!
Михаил Николаевич Лонгинов, библиограф и историк литературы, некогда либерал, человек, близкий к «Современнику» и принадлежавший к окружению Козьмы Пруткова, наконец получил возможность применить к делу свои взгляды, изложенные им в памятном нам письме к Алексею Жемчужникову и в речи на заседании Общества любителей российской словесности. Лонгинов-цензор свирепствовал так, что его осуждали даже друзья. Алексей Толстой прослышал, что он среди прочего запретил даже книгу Дарвина, и написал свое «Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме», предпослав ему шутливое предупреждение: «Читать осторожно, сиречь не все громко» и прутковские афоризмы.
Алексей Толстой был человеком верующим, но он не мог представить себе, как можно принимать всерьез жестокие, человеконенавистнические ветхозаветные сказки, которые не имеют ничего общего с христианской этикой. Но именно они, войдя составной частью в церковное учение, многие века тормозили развитие науки и служили примером для весьма нехристианских нравов. Толстой шутливо упрекнул Лонгинова даже в «ереси» - Комитет по печати предписывал самому богу приемы сотворения человека. «И по мне, - писал Толстой, - шматина глины не знатней орангутанга. Но на миг положим даже: Дарвин глупость порет просто - ведь твое гоненье гаже всяких глупостей раз во сто».
Толстой и тут не удержался от язвительных слов в адрес нигилистов, которые со своей неопрятностью и поведением «норовят в свои же предки».
Лонгинов тоже сочинил стихотворное послание к Толстому, в котором отрицал слухи о запрещении книги Дарвина. Толстой в письме к Стасюлевичу написал: «Он отрекается от преследования Дарвина. Тем лучше, но и прочего довольно...»
Весну и лето 1867 года Алексей Толстой провел в Пустыньке. И работал не покладая рук. Наконец вышел первый сборник его стихотворений. Тщательно отбирал их Толстой, но, занятый театром, новой трагедией, балладами, он необдуманно воспользовался предложением Маркевича держать корректуру сборника, который вышел с многочисленными опечатками и искажениями. Это расстроило Толстого, но не лишило чувства юмора в стихотворной благодарности, посланной Маркевичу:
Сменив Буткова на Каткова,
Отверг ты всякий ложный стыд.
Тебе смысл здравый не окова;
Тебя нелепость не страшит.
И я, тобою искаженный,
С изнеможением в кости
Спешу, смущенный и согбенный,
Тебе спасибо принести.
Сам Толстой был чрезвычайно придирчив к себе. Поражает легкость, складность его стихов. Но какой труд стоит за этой «легкостью», мог поведать только автор их, как он это сделал в марте, справляясь у Павловой о переделке перевода «Смерти Иоанна Грозного», умоляя ее, чтобы материнские чувства к уже сделанной работе не помешали ей пересмотреть стих за стихом и черкать безжалостно... «Вы не можете себе представить, как я беспощаден к «Федору» и как я зачеркиваю не только целые листы, но и целые тетради. Вы, пожалуй, скажете про меня: заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет, по, право, без этого нельзя. Только так и может выйти что-нибудь порядочное».
Ему хочется, чтобы сохранилась лаконичность оригинала, чтобы не возникало двух стихов, где нужен один. Ему хочется, чтобы и в Германии трагедия имела такой же успех, как и в России. И он не без гордости сообщает, что очередь в кассу выстраивается с 8 утра, что прошло уже очень много представлений, а барышники продают билеты в кресла по 25 рублей, что газеты осыпают его похвалами и бранью, из чего составился у него едва ли не целый том, что чиновники украли половину отпущенных на постановку денег, что есть лишь поклонники и злобствующие, а равнодушных нет. К злобствующим принадлежит петербургский полицмейстер, считающий, что «пьеса крамольная, направленная на поругание власти и на то, чтобы научить народ строить баррикады». И еще «Последователи покойного Муравьева говорят, что пьесу надо запретить. Все красные и нигилисты ею возмущены и что есть сил набрасываются на меня».
Павлова приехала в Пустыньку и провела там целый месяц. «Довела перевод до такой степени совершенства, что я назвал бы его шедевром, если бы не был автором оригинала». Сделано это было не без помощи Толстого, который владел немецким так совершенно, что бегло писал на нем неплохие стихи. Видимо, Павлова заразила Толстого интересом к переводам, и, когда пришло время опять ехать в Карлсбад, он захватил с собой томик Гёте, бродил по горам и заносил в записную книжку строфы из «Коринфской невесты» и «Бога и баядеры».
Он пытался даже теоретизировать в сфере перевода, не первый сделал открытие, что надо отдаляться от «подстрочности», и стоял за вольность переложения - отбрасывал без церемоний стихи, которые казались ему вставленными «как заклепки». В результате вышло правило:
«Я думаю, что не следует переводить слова и даже иногда смысл, а главное, надо передавать впечатление.
Необходимо, чтобы читатель перевода переносился бы в ту же сферу, в которой находится читатель оригинала, и чтобы перевод действовал на те же нервы».
Толстому исполнилось пятьдесят лет. «Я - старенький», - писал он Софье Андреевне, а мысли у самого почти юношеские - не пора ли поработать над своим «я», которое «есть неизбежная изнанка чувства чести», чтобы оно не брало верх над всем остальным. Этакое самоунижение паче гордости...
А тем временем великий герцог Карл Александр Саксен-Веймар-Эйзенахский пригласил его посетить свои владения, обхаживал, и никогда еще Толстой не проводил так приятно время в Германии. И снова он в замке Вартбург неподалеку от Эйзенаха. Из его комнаты с окошками в свинцовых переплетах, как медовые соты, вид в узкий двор замка, а с другой стороны - на горы, покрытые лесом. Тут и старинные картины, и инструменты миннезингеров XII века, и комната с привидением, и лестницы винтом, и посуда XI столетия - все как положено, все дышит рыцарством и Западом. В Эгере Толстой остановился в грязнейшей гостинице, зато напротив дом, в котором убили Валленштейна. В Вильгельмстале ему вспомнилось детство, гувернер Науверк, поведавший историю Фауста. Тут же он встретился с Павловой. Приехал герцог, рассказывавший легенды об исторических руинах, которые попадались на каждом шагу...
«И как у тебя сердце бьется в азиатском мире, так у меня забилось и запрыгало сердце в рыцарском мире, и я знаю, что прежде к нему принадлежал...» - написал он жене. В Веймаре его познакомили с актером Лёфельдом, который должен был играть Ивана Грозного. Актер и поэт остались в восторге друг от друга.
Толстого поразило, как немцы берегли старину, каждое здание, обстановку. Возобновляли приходившее в негодность. Герцог пользовался уважением своих подданных и понравился Толстому, который сказал ему это на прощанье.
- Боже мой, - ответил герцог, - я благодарен, но я знаю, что это ко мне не относится. Это наследство, и я его хранитель. Я стараюсь как можно лучше действовать, но я знаю, что я портной, который всеми силами старается хорошо заштопать старое платье.
И через сотню лет после смерти Толстого в городах, где он побывал, остался цел и невредим (либо восстановлен) каждый камень...
В октябре Алексей Константинович вернулся в Петербург и привез с собой «Змея Тугарина», которого он впоследствии считал лучшей из своих баллад. Во всяком случае, это была программная вещь, отчетливо выражающая его взгляд на русскую историю.
Некогда славен и могуч был Киев. Правил в нем князь Владимир, и на пиру у него однажды выступил неведомый певец:
Глаза словно щели, растянутый рот,
Лицо на лицо не похоже,
И выдались скулы углами вперед,
И ахнул от ужаса русский народ:
«Ой рожа, ой страшная рожа!»
Он предрекал гибель Киеву в огне, потерю русскими чести, которую заменит кнут, а вече - каганская воля. Он слушал смех богатырей, угрозы Ильи Муромца...
Певец продолжает: «И время придет,
Уступит наш хан христианам,
И снова подымется русский народ,
И землю единый из вас соберет,
Но сам же над ней станет ханом!..»
Страшное время настанет на Руси.
«Обычай вы наш переймете,
На честь вы поруху научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!
И с честной поссоритесь вы стариной,
И, предкам великим на сором,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: «Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к обдорам!»
Это все та же мысль о «клеймах татарского ига», хотя баллада обрывается на обнадеживающей ноте - русским народом в конце концов будут править русские и по-русски.
Пирует Владимир со светлым лицом,
В груди богатырской отрада,
Он верит: победно мы горе пройдем,
И весело слышать ему над Днепром:
«Ой ладо, ой ладушки-ладо!»
«Змей Тугарин» был началом целой серии баллад, в которых Толстой яростно отстаивал мысль о том, что Русь только тогда и была Русью, когда она и Европа были неотделимы. «Песня о Гаральде и Ярославне», «Три побоища», «Песня о походе Владимира на Корсунь», «Гакон Слепой» - все они порождены тесным знакомством Толстого с Московской Русью, неприятием ее и поисками светлого, подлинно русского начала в домонгольском периоде, когда, по его представлениям, честь, достоинство человека и свобода ценились превыше всего. В это же время он разражается яростными филиппиками в письмах против славянофилов. Отправляя «Змея Тугарина» в «Вестник Европы», он ждет «с нетерпением московской (славянофильской. - Д. Ж.) и нигилистической брани».
Брани, кстати сказать, не было, но Толстой сам рвется в драку, и, когда в «Вестнике Европы» появилась статья Стасова «Происхождение русских былин», где доказывалось, что они заимствованы на Востоке через посредство монгольских и тюркских племен и относятся совсем не к Киевской Руси, а к эпохе монгольского владычества, он сразу же замечает ее и потом долго не может успокоиться из-за слабости возражений славянофилов и отсутствия публичных выступлений серьезных ученых. Буслаева, например. Что толку обвинять Стасова в отсутствии патриотизма?
«Счастье Стасова, что его противники так глупы и что атакуют его не с той стороны... Что-либо прочитать и что-либо не переварить не одно и то же, а Стасов решительно ничего не переварил. Вольно Оресту Миллеру угрожать ему какой-то диссертацией об Илье Муромце, вместо того чтобы согласиться с ним, что большая часть наших былин восточного (sic!), хотя нисколько не монгольского, а чисто арийского происхождения (что противоречит в корне утверждениям Стасова), а затем разбить его в пух и прах за его смешение этих элементов, которые не имеют между собой ровно ничего общего».
Но ведь Стасов опирался на материал, собранный Рыбниковым, Сахаровым, Афанасьевым и всеми теми другими подвижниками, которых старательно изучал и Алексей Толстой. Но это же былины уже испорченные «лакейской» переделкой в московский период. Где найдется тот ученый, который разглядит в них первобытные русские черты, киевские, новгородские?
«Россия, современная песне о полку Игоря, и Россия, сочинившая былины, в которых Владимировы богатыри окарачь ползут, в поры прячутся - это две разные России».
У Толстого большой счет к ученым. «Так поступают, увы! отчасти и славянофилы! Так поступали и глубоко симпатичные мне Константин Аксаков и Хомяков, когда они гуляли на Москве в кучерских кафтанах с косым (татарским) воротом. Не с этой стороны следует подходить к славянству».
Он призывает отказаться от формального понимания истоков русской культуры и мироощущения и обратиться к глубинной истории индоевропейских народов, к еще той поре, когда они стали «отделяться от древнего арийского ствола, и нет сомнения, что и интересы и мифология у нас были общие». Вон у Вальтера Скотта в «Айвенго» упоминается саксонский бог Чернобог. Взял он это, верно, из саксонских хроник, а следовательно, вместе с Генгистой или с Горсой пришли в Британию и славяне, принесшие этого бога. «Тьфу на этот антагонисм славянства к европейисму!» Долой Золотую орду!
Письма Толстого тех лет полны всяких сведений о тесных связях Киевской Руси и вообще славянства со всеми народами Европы.
«У Ярослава было три дочери - Елизавета, Анна и Анастасия. Анна вышла замуж за Генриха I, короля Франции, который, чтобы посватать ее, послал в Киев епископа Шалонского Роже в сопровождении 12 монахов и 60 рыцарей. Третья дочь, Анастасия, стала женой короля Венгрии Андрея. К первой же, Елизавете, посватался Гаральд Норвежский, тот самый, что воевал против Гаральда Английского и был убит за три дня до битвы при Гастингсе, стоившей жизни его победителю. Звали его Гаральд Гардрад, и так как он тогда находился еще в ничтожестве, то и получил отказ. Сраженный и подавленный своей неудачей, он отправился пиратствовать в Сицилию, в Африку и на Босфор, откуда вернулся в Киев с несметными богатствами и стал зятем Ярослава. Вот сюжет баллады. Дело происходит в 1045 году, за 21 год до битвы при Гастингсе».
Тянет, тянет его туда. Возникают замыслы новых баллад.
«Я буду писать их в промежутках между действиями «Царя Бориса», и одну из них я уже начал. Ненависть моя к м_о_с_к_о_в_с_к_о_м_у п_е_р_и_о_д_у - некая идиосинкразия, и мне вовсе не требуется принимать какую-то позу, чтобы говорить о нем то, что я говорю. Это не какая-нибудь тенденция, это - я сам. И откуда это взяли, что мы антиподы Европы? Над нами пробежало облако, облако монгольское, но было это всего лишь облако, и пусть черт его умчит как можно скорее».
Не отрицая норманнской теории, Толстой горячо возражает против того, что скандинавы вместе с государственностью установили у нас свободу. «Скандинавы не устанавливали, а нашли вполне установившееся вече». Были процветавшие русские республики, а московское собирание, по его мнению, установило деспотизм. Разумеется, это надо было, чтобы сбросить иго и выжить Руси. Но что получилось? Толстой становится грубым: «Клочок земли - это лучше, чем куча дерьма».
Но глубоко ошибется тот, кто подумает, что негодование Толстого носит чисто исторический характер. Прежде всего он не может примириться с утверждением славянофилов о том, что одной из главных черт русского характера надо считать смирение, «примеры которого мы явили в преизбытке и которое состоит в том, чтобы сложить все десять пальцев на животе и вздыхать, возводя глаза к небу: «Б_о_ж_ь_я в_о_л_я! П_о_д_е_л_о_м н_а_м, г....а_м, з_а г_р_е_х_и н_а_ш_и! Н_е_с_т_ь б_а_т_о_г_о_в, а_щ_е н_е о_т б_о_г_а!» и т. д.».
И вот тут выясняется, что негодование Толстого относится к современной ему России, которая должна принимать на свой счет «глупости Тимашева» и ему подобных. Он обрушивает свой гнев и на всю нацию, проявляющую удивительное терпение к произволу и беспомощности правителей, считает страну неподготовленной к принятию конституции. Не замечая иной раз великих достижений нации, особенно ярких именно в XIX веке, он, так любящий родину, брюзжит, что «русское дворянство - полное ничто, русское духовенство - канальи» и т. д. и т. п.
В этом же письме Толстой в самых резких выражениях порицает порядки, существовавшие в царской России. У него «хватает смелости» признаться в том, что ему хотелось бы родиться где угодно, но только не здесь. Он думает о красоте русского языка, об истории России и готов «броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами», данными природой русскому человеку. Это перекликается с известным восклицанием Пушкина: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом!»
Русскому человеку никогда не было свойственно чувство национального чванства. Кто-кто, а русские любят поговорить о собственных недостатках, о неумении навести у себя порядок, о собственной лени и беспечности, а тем временем страна набирает мощь (не трудами ли их?) и в силу все той же критичности ума в духовном отношении опережает остальной мир, хотя и осознает это с некоторым опозданием, не всегда вовремя воплощая плодотворные мысли своих сынов.
Говоря в биографии о взглядах героя, трудно придерживаться хронологического порядка - приходится иной раз идти сквозь его переписку, протяженную во времени. Интересно недавно обнаруженное автором у потомков Н. Барсукова письмо Толстого к Погодину от 17 июня 1870 года, в котором он не соглашался с историком, считавшим, что поэт представил Бориса Годунова подлецом.
«Где же он у меня подлец! Возьмите все три трагедии вместе (они составляют трилогию) и проследите роль Бориса. Он даже не злодей, а человек, следующий иезуитскому правилу: цель освящает средства с тою разницею, что его цель действительно высока. Вы с истинно западным, но скажу даже, с рыцарским чувством заступаетесь за его жену. Такое чувство я не только буду оспаривать, но радуюсь, что оно нас сближает, ибо я в душе западник и ненавижу московский период, но мне кажется, что это чувство неприменимо к настоящему случаю. Упрек Бориса, Вас возмущающий,
«Не твоему то племени понять,
Что для Руси величие пригодно» -
не заключает в себе ничего подлого. Борис женился на дочери Малюты, конечно, не по любви, а по расчету. Мария Григорьевна стоит неизмеримо ниже Бориса. Со смертию Малюты и Иоанна она не только ему не подмога, но помеха; от родства с ея подлым племенем остался на Борисе один срам, и она надоела ему как горькая редька».
Помимо того что в этом письме еще раз проясняется образ Годунова, проходящий через всю трилогию, мы возвращаемся к поискам в Древней Руси настоящего народоправства, которое Толстой видел в вече, сохраненном князьями.
И даже появление «Государя-батюшки» было объяснено Толстым весьма оригинально. «Петр I, несмотря на его палку, - писал он, - был более русский, чем они, «славянофилы», потому что он был ближе к дотатарскому периоду... Гнусная палка была найдена не им. Он получил ее в наследство, но употреблял ее, чтобы вогнать Россию в ее прежнюю родную колею».
Однако тянувшийся к некой «идеальной Европе» Алексей Толстой в отличие от либералов-западников презирал обывательский дух современных ему европейцев, с которыми познакомился в своих многочисленных поездках. Он метко критиковал буржуазный практицизм. Мемуарист К. Головин вспоминал о споре Алексея Толстого с Тургеневым в Карлсбаде.
- Наполеон предсказал, - говорил Тургенев, - что через сотню лет Европа будет либо казацкою, либо якобинской. Теперь уж сомненья нет: ее будущее в демократии. Поглядите на Францию - это образец порядка, а между тем она все более и более демократизуется.
- То, к чему идет Франция, - возражал ему Толстой, - это царство посредственности. Мы накануне того дня, когда талант станет препятствием для политической карьеры. Как вы не видите, Иван Сергеевич, что Франция неуклонно идет вниз...
Они еще поспорили, что считать «подъемом», а что «упадком», но Тургенев так и не убедил «западника» Толстого в преимуществах западной демократии.
Возвратившемуся в 1867 году в Петербург поэту предстояло провести хлопотливую зиму, и они с женой решили не утруждать себя бесконечными поездками из Пустыньки. Они наняли дом на Гагаринской набережной, который был открыт для весьма широкого круга их знакомых, встречавшихся у Толстых по понедельникам. Прекрасная музыкантша и человек энциклопедически образованный, Софья Андреевна царила на этих литературных вечерах, «золотым голосом» своим очаровывая гостей.
Но, по словам современников, Софья Андреевна при первом знакомстве как бы ощупывала людей, окачивая их холодной водой скрытой насмешки. Толстой старался сгладить возникавшее было неприятное чувство добродушной благосклонностью. Говорили о сочетании у него ума и сердечной доброты, а также о природном юморе, столь тонком, что иные каламбуры и шутки, весьма и весьма меткие, нисколько не обижали тех, кого они касались. Толстой славился умением сближать людей. По понедельникам никогда не приглашали сразу много людей, чтобы не было разнородной толпы, и гости чувствовали себя приятно и весело. Даже резкие на язык люди вели себя в их доме весьма сдержанно. Гостями бывали Гончаров, Майков, Тютчев, Боткин, Островский, композитор Серов, Тургенев, Маркевич...
Лучшие артистические силы Петербурга приглашались на эти вечера, и Боткин писал к Фету, что «дом Толстых есть единственный дом в Петербурге, где поэзия не есть дикое бессмысленное слово, где можно говорить о ней, и, к удивлению, здесь же нашла приют и хорошая музыка,..» И еще: «Нынешнюю зиму самый приятнейший дом был у Толстых».
Уже в конце октября 1867 года Толстой посылает Костомарову шутливое приглашение на обед в новом доме, обещая познакомить его с Василием Ивановичем Кельсиевым, «иже из келий 3-го Отделения изшедшим», тощим и невзрачным человечком. В свое время Кельсиев эмигрировал, сотрудничал у Герцена, ведя пропаганду среди старообрядцев. В 1867 году он отступился от Герцена, вернулся в Россию и действительно после короткого пребывания у жандармов оказался на воле и был принят во многих домах. Никитенко вспоминает, что у Толстых говорил он «преимущественно о раскольниках, о которых он высокого мнения, как о настоящих представителях русской народности». Видимо, это и привлекло к нему Алексея Константиновича, когда-то занимавшегося делами старообрядцев.
Вместе с Костомаровым у Толстых появился Михаил Матвеевич Стасюлевич, обходительный обрусевший поляк из бывших либеральных профессоров, женившийся на Любови Исааковне Утиной, дочери миллионера и сестре известных нигилистов Николая и Евгения. Они жили в громадном доходном доме Утиных на Конногвардейском бульваре, где селилась теперь новая знать - например, барон Гораций Гинцбург, на Ленских приисках которого впоследствии безжалостно расстреляли рабочих. Новая знать роднилась со старой - дочь Стасюлевича уже была Баратынской. На деньги тестя Стасюлевич создал новый журнал, взяв для него старое название - «Вестник Европы» (как у издания Карамзина).
Появившись у Толстых 8 ноября 1867 года, Стасюлевич сразу сообразил, что именно здесь он познакомится с знаменитейшими из литераторов. Уже через два месяца он сообщал жене: «Литературный салон Толстого имеет огромное влияние на судьбу В. Е.». Еще бы! 16 ноября Островский читал здесь «Василису Мелентьеву», 26-го Павлова - перевод трагедии о Валленштейне. Стасюлевич наложил руку на все творчество самого Толстого, заручившись поддержкой Софьи Андреевны. Новую балладу «Змей Тугарин» он ловко провел через цензуру. Буквально в тот же день, когда Алексей Константинович отдал ему свою вещь, оттиск для корректуры уже лежал на письменном столе у поэта. Удобное знакомство...
А тут еще Гончаров поспевал со своим романом, который получит название «Обрыв». Кстати, когда Гончарова упрекали в обломовской лени, он предлагал «вместо лени поставить артистическую, созерцательную натуру, способную и склонную жить только своею внутреннею жизнию - интересами творчества, деятельностью ума, особенно фантазии, и оттого чуждающуюся многолюдства, толпы: то была бы и правда, особенно если прибавить к ней вышеупомянутую нервозность, робость!». И добавлял: «Вот какая моя обломовщина! Она есть если не у всех, то у многих писателей, художников, ученых! Граф Лев Толстой, Писемский, гр. Алексей Толстой, Островский - все живут по своим углам, в тесных кружках!»
В своих воспоминаниях Гончаров писал о Толстом, с которым познакомился тотчас после Крымской войны. Как и все, он говорил об уме, таланте, открытом и честном нраве Алексея Константиновича. Особенно запомнилась ему та зима, когда он каждый день ходил на Гагаринскую набережную и однажды встретился там со Стасюлевичем, «который тогда старался оживить свой ученый журнал беллетристикой и сойтись с Толстым, который готовил, после «Смерти Иоанна», драму «Федора Иоанновича».
Гончаров сказал Толстому, что у него есть три части нового романа. Стасюлевич мечтал уже, как «высоко прыгнет» его журнал, если удастся прибрать к рукам и Гончарова. Но настоящая охота началась только после возвращения Алексея Константиновича из Германии...
Пробыв в Веймаре конец января и начало февраля 1868 года, Толстой вернулся с триумфом, переполненный впечатлениями, о которых не уставал рассказывать с юмором в своих письмах жене, Маркевичу, Листу. Главный трагик Лёфельд еще раньше поразил его высоким ростом, величественной осанкой, резкими и подвижными чертами страстно-зловещего лица, словно бы созданного для того, чтобы передавать порывы гневной души Ивана Грозного. Актер хорошо знал свою роль. Царский посох ему сделали тупой, чтобы он, увлекшись, не пронзил бы кого. В общем на репетициях он Толстому понравился. Огорчало, что для «славянского» антуража актеров нарядили в какие-то тюрбаны. Бояре кланялись, сложив крестообразно на груди руки. Толстой возмутился, а ему отвечали: «Но ведь это восточное!» Раздосадованный тем, что русских смешивают с турками и татарами, поэт сказал: «Потому-то этого и не следует делать!»
30 января состоялась премьера. Зал был переполнен. Лёфельд играл хуже, чем на репетициях, но этого, кроме автора, никто не заметил. Толстого вызывали на сцену после каждого действия. Он считал, что своим успехом комедия обязана «высокохудожественному» переводу Павловой. Что же касается Лёфёльда, то в нем Толстой разочаровался - одних внешних данных мало, актер должен быть еще и умен...
А 1 марта в Петербурге у Боткина впервые читался «Царь Федор Иоаннович». Присутствовали Гончаров, Костомаров, Тютчев, Майков, Щербина, Никитенко, Анненков и, конечно, Стасюлевич, уже заготовивший в ближайшем номере «Вестника Европы» место для трагедии, которая, как он писал жене, «чуть не ускользнула» от него.
К Толстым, по выражению Гончарова, все льнули как мухи. Не составлял исключения Иван Александрович, писавший Александре Толстой: «Вы обладаете свойством задирать меня. Простите за это вульгарное слово... Им (свойством. - Д. Ж.) обладают немногие, между прочим, более других обладает гр. А. К. Толстой». Подразумевается здесь не стремление к ссоре, а побуждение к действию. Уставший от романа Гончаров был вдохновлен участием Толстых, их интересом к его неоконченному творению.
По версии Гончарова, Толстые и Стасюлевич целую неделю бывали у него с 2-х до 5-ти дня и слушали его чтение трех частей романа. «Как они изумились этим трем частям! Как вдруг я вырос в их глазах! Хотя они сдержанно выражали одобрение, но я видел какую-то перемену в их отношении ко мне, на меня глядели с каким-то удивлением, иногда шептали что-то, глядя на меня, и я видел, что произвел хорошее впечатление».
А что было на самом деле? В конце марта Толстой в записке к Стасюлевичу с просьбой напечатать в «Вестнике Европы» приложенную поэму Полонского «Ночь в Летнем саду» напомнил и об ожидании корректурных листов «Царя Федора»; в ней также выражалось желание, чтобы редактор присутствовал при чтении на Гагаринской набережной неизданного романа Гончарова.
Потворствуя мнительному Ивану Александровичу, вечно озабоченному приоритетом своих сюжетов и мыслей, это деяние осуществили в обстановке сугубой секретности, в спальне Софьи Андреевны, и, когда после обеда явился поэт Щербина, от него тщательно скрывали причину посещения Гончарова...
Чтение продолжалось месяца два и в Петербурге и в Пустыньке.
В Москве тем временем поставили «Смерть Иоанна», и тоже с громадным успехом. Достаточно сказать, что главную роль играл Шуйский, что в спектакле Малого театра были заняты великий Пров Садовский, у которого «маска срасталась с телом», И. В. Самарин и другие корифеи сцены. Именно там хотел Алексей Константинович увидеть премьеру «Царя Федора Иоанновича», прочил на главную роль «нашего достойнейшего Сергея Васильевича» Шуйского, но... цензурная судьба этой трагедии нам уже известна.
Толстой продолжал работу над «Царем Борисом», заготовив впрок дидактическую концовку:
От зла лишь зло родится - всё едино:
Себе ль мы им служить хотим иль царству -
Оно ни нам, ни царству впрок нейдет!
Эта трагедия тоже не увидела сцены.
Летом 1868 года Алексей Константинович ненадолго съездил подлечиться в Карлсбад, а Софья Андреевна с племянницами отправилась в Красный Рог, где пыталась «оказывать посильную помощь населению, страдавшему от голода и тифа», как отмечал А. Кондратьев.
Уже в июле Толстой присоединился к ней. Отныне он будет постоянно жить в Красном Роге, выезжая оттуда лишь в крайнем случае. Таким случаем была необходимость отвезти в Одессу на лечение Софью Андреевну, которая страдала бессонницей и болезнью глаз. Это произошло в феврале 1869 года, а 14 марта в местном Английском клубе в честь Толстого дали обед. Местный театр собирался поставить «Смерть Иоанна Грозного», пошел на издержки, но тут доставили телеграмму о запрещении постановки. Одесская публика была возмущена. Обед, устроенный в честь Толстого, был своего рода демонстрацией против запрещения, но, чтобы смягчить такую окраску и придать событию официальный характер, в Английский клуб явились и губернатор и даже генерал-губернатор всего края.
Приветственное слово произнес Константин Михайлович Базили, писатель и бывший дипломат.
Ответная речь Толстого и на этот раз была направлена «против течения». Нет, он не возмущался преследованиями цензуры и запрещением постановки своей трагедии. Более того, он воздал должное присутствию высоких сановников. Но честь, оказанную ему, Толстой относил как к своей литературной деятельности, так и к своим «задушевным убеждениям». Они-то и стали темой его речи. Он возвращался к давно выношенным мыслям, чтобы высказать в конце концов идею, которая опять была сочтена крамольной...
- На всех нас лежит обязанность по мере сил изглаживать следы этого чуждого элемента, привитого нам насильственно, и способствовать нашей родине вернуться в ее первобытное, европейское русло, в русло права и законности, из которого несчастные исторические события вытеснили ее на время.
Так он мягко, но настойчиво напоминал о беззакониях и самоуправстве, которые считались едва ли не нормой в отношении власть имущих к бесправному народу.
- В жизни народов, милостивые государи, - продолжал Толстой, - столетия равняются дням или часам отдельной человеческой жизни. Период нашего временного упадка со всеми его последствиями составит лишь краткий миг в нашей истории, если мы не в нем будем искать нашей народности, но в честной эпохе, ему предшествовавшей, и в светлых началах настоящего времени...
И вот тут он сказал главное. «Во имя нашего славного прошедшего и светлого будущего» Толстой предложил присутствовавшим выпить «за благоденствие всей русской земли, за все русское государство, во всем его объеме, от края и до края», за всех подданных государства, «к какой бы национальности они ни принадлежали!».
Ну, казалось бы, что в этой столь привычной для нас фразе вызвало возмущение определенных кругов? Почему они обрушились на Толстого, избрав своим рупором Болеслава Маркевича, друга поэта, поляка, который напрочь отказался от своей национальной принадлежности? То, что мы считаем само собою разумеющимся, тогда было предметом ожесточенных споров.
Весной 1869 года в Петербурге умирал поэт Щербина, чьи антологические стихи породили множество подражений Козьмы Пруткова. Жил он в бедности, почти в нищете, в тесной и душной квартире. Бесконечные заботы подорвали его здоровье. Толстой все звал его в Красный Рог, надеясь вылечить этого доброго человека. Но тот уже потерял волю к жизни. Маркевич навестил его и спросил, как он воспринял слова Толстого о национальностях. Щербина ответил, что это, верно, какой-то ляпсус.
- Граф - такая благородная и всеми уважаемая личность, что надо ему помешать себя компрометировать и других в соблазн приводить, - сказал он.
Эти слова Маркович привел в письме к Толстому от 17 апреля, где очень пространно пытался доказать, что еще Александр I допустил ошибку, признав существование польской национальности, и тем самым создал почву для настроений, враждебных России. Поляки полонизировали живущих на их землях русских, как онемечивали немцы в Прибалтике, хотя латыши, например, выражали свое желание составлять с русскими одну семью. «Дело в том, - пишет Маркевич, - что каждая национальность, если только потворствовать ее инстинктам, непременно будет стремиться сначала к автономии, а затем и к полной независимости». Он приводит в пример Англию, Францию, полностью ассимилировавших племена, входившие первоначально в их состав. То же происходит и с Пруссией. Маркевич призывает на помощь дарвиновскую теорию борьбы, из которой выходит победителем самый ловкий и храбрый, а потому призывает признать, что «России, дабы не быть поглощенной иностранным элементом, остается только поглощать и научиться переваривать иностранные элементы».
А в ранних письмах Маркевича мы находим хвалы Каткову, Самарину, Черкасскому как защитникам принципа «собирательства», национальной идеи, «завещанной России всем ее прошлым». Но он видит укрепление могущества страны лишь в полном обрусении подвластных ей иноплеменников. «Единые законы, единый язык, единое управление как в центре империи, так и в окраинах - вот цель, к которой должно стремиться». Вслед за Катковым и Самариным, о которых Толстой говорит неодобрительно, Маркевич призывает не давать денег на развитие окраин. «Пусть лучше эти деньги возвращаются туда, откуда мы их берем: наш родной народ более в них нуждается, чем эти балтийцы, с которыми ему приходится бороться».
Неуклюжими, глупыми и даже преступными называет Толстой некоторые доводы Маркевича. Разве можно запрещать говорить по-польски в кофейнях и аптеках, как это делает статс-секретарь по делам Царства Польского Н. А. Милютин? Объявлять польскую национальность вне закона?
«Вы называете себя русским, но упреки, которые Вы мне делаете за мой тост, это упреки немца! Вы вместе с бедным Щербиной говорите: «Разных национальностей в могущественном государстве допустить нельзя!» Милые дети! Посмотрите в лексикон! Что такое национальности? Вы смешиваете государства с национальностями! Нельзя допустить разных государств, но не от вас зависит допустить или не допустить национальностей! Армяне, подвластные России, будут армянами, татары татарами, немцы немцами, поляки поляками!»
Толстой не был бы Толстым, если бы не попытался испробовать себя в сатире на ту же тему. Так родилась «Песня о Каткове, о Черкасском, о Самарине, о Маркевиче и о арапах». Толстой напоминает свою собственную мысль о том, что «никого не вгонишь в рай дубиной». К чему, например, пришли англичане, решившие поглотить ирландцев? И чем меньше национальность, тем менее простительно прибегать к насилию и попирать ногами законы общества.
1 В. И. Ленин различал «революционный нигилизм», «анархизм иди интеллигентский нигилизм», а также «оппортунистический нигилизм, который проявляют либо анархисты, либо буржуазные либералы».
К. Маркс отмечал «школьнический нигилизм, который теперь в моде среди русских студентов...».