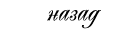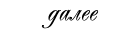Д.А. Жуков «Алексей Константинович Толстой»
Глава десятая
КРАСНЫЙ РОГ
Афанасий Афанасьевич Фет всегда испытывал чувство живейшей симпатии к Алексею Константиновичу Толстому. Редкие случайные встречи их непременно сопровождались задушевными беседами. Фету с Толстыми было «хорошо и просто». Давно его приглашали в Красный Рог, соблазняя охотой на вальдшнепов и глухарей, чтением «Царя Бориса» и новых баллад. Он было собрался ехать в начале 1869 года, да Толстой повез жену в Одессу. Письма Алексея Константиновича были короткими и деловыми, но Фет, приводя их в своих воспоминаниях, говорил, что «нельзя же требовать от прирожденного поэта, который, как искрометное вино, рвет пробку, прежде чем польется в стакан, чтобы он в дружеском письме охорашивал слова, как кауфер свою восковую куклу». Так воздавал он должное искусству Толстого вести беседу, польщенный признанием супругов о том, что он, Фет, останется в русской поэзии навсегда.
И вот он в Брянске, где ждет его прекрасная графская тройка в коляске-тарантасе. Он едет по дороге, кое-где застланной бревенчатым накатом, сквозь хвойные леса, мимо озер, затянутых ряской, вспугивая диких уток. Приняли его очень радушно и поселили во флигеле, чтобы он мог, не тревожа никого, подыматься ранней зарей на охоту. У Толстых гостил блестящий молодой дипломат Хитрово, за которого вышла замуж племянница Софьи Андреевны, тоже Софья.
«Трудно было выбирать между беседами графа в его кабинете, где, говоря о самых серьезных предметах, он умел вдруг озарять беседу неожиданностью a'la Прутков, - и салоном, где графиня умела оживить свой чайный стол каким-нибудь тонким замечанием о старинном живописце, или каком-нибудь историческом лице, или, подойдя к роялю, мастерскою игрою и пением заставить слушателя задышать лучшею жизнью».
После завтрака устраивались чтения «Федора Иоанновича» и тогда еще неоконченного «Царя Бориса». Как-то все выехали на прогулку в линейке, которую везла четверка прекрасных лошадей. Хозяйственный Фет спросил Толстого о цене левой пристяжной. И услышал в ответ:
- Этого я совершенно не знаю, так как хозяйством решительно не занимаюсь.
По дороге Толстой затянул песню, Софья Андреевна вторила ему. Фета поразило обилие стогов сена на лугах. Ему объяснили, что сено накопляют два-три года, а потом за неимением места для склада сжигают.
Фет был совершенно огорошен.
«Этого хозяйственного приема толстого господина, проживавшего в одном из больших флигелей усадьбы, которого я иногда встречал за графским столом, я и тогда не понимал и до сих пор не понимаю», - писал он.
Фета тревожила перемена в Толстом, лицо которого было багрового цвета от прилива крови к голове. Спасаясь от головной боли, Алексей Константинович старался побольше гулять, но это не помогало ему.
В имении жил доктор Кривский, который был предметом постоянных шуток Толстого. Именно ему посвящены очень смешные «Медицинские стихотворения». Врач вспоминал, что Толстому рядом с обеденным прибором всегда клали листок бумаги, на котором часто появлялись веселые экспромты. Соседей помещиков, приезжавших в гости, поэт переносил с трудом и оживлялся только тогда, когда они откланивались.
Старых же друзей он старается залучить в Красный Рог, где якобы разгуливают медведи «в полумиле от дома». Всем описывает подробно маршрут от Петербурга или Москвы до Брянска, куда обещает прислать лошадей, как Фету. И Костомарова зовет, подробно выспрашивая, например, почему Иоанн Датский (жених Ксении Годуновой) воевал в Нидерландах под знаменами Испании. Ему надо знать все о персонажах трагедии. «Я весь погрузился в «Царя Бориса» и ничего не вижу вокруг себя, ничего не замечаю, ни холода, ни одиночества, ровно ничего - вижу только мою драму, которой отдался всей душой, и хотя я не стесняюсь историей, по желал бы дополнить ее пробелы, а не действовать против нее». Софья Андреевна поддерживает это его настроение, уверяя, что теперь он пишет так хорошо, как не писал никогда.
Теперь он уже осознает, что сельский хозяин из него вышел плохой. Быть прижимистым, считать каждую копейку не в его духе. Он гордится тем, что у него лучшие отношения с его бывшими крепостными, что они добрые друзья, что они никогда не жаловались на него, что, как и прежде, он помогает крестьянам то деньгами, то дровами, позволяет пасти скот на своих полях, что им всегда оказывается медицинская помощь, а для их детей существует бесплатная школа...
О доброте и бесхозяйственности его рассказывали легенды. Однажды его бывшие крестьяне попросили у него дров, и он предложил им вырубить находившуюся возле усадьбы липовую рощу, что они немедленно и сделали. Толстой совершенно не был в состоянии отказывать просителям. Его без конца обманывали управляющие имениями, которым он все прощал.
Конец зимы 1869 года для крестьян был тяжелый. Многие голодали.
Толстой писал тогда: «Смотреть на то, что творится, - ужасно. И все-таки они предпочитают умирать от голода, чем работать. Делайте из этого какой угодно вывод, но здесь, по крайней мере, эмансипация отбросила их далеко назад. Значит ли это, что я враг эмансипации? Боже меня сохрани! Но мне кажется, что для каждой местности существуют свои особые законы и что нельзя ставить на одну доску все местности. Свобода стала здесь не благом, а злом для крестьян. За 150 верст отсюда, в Погорельцах, другом нашем имении, она явилась, напротив, благодеянием, и пьянство прекратилось совершенно - так что евреи уезжают оттуда, считая, что невыгодно оставаться в таком месте, где не пьют».
Алексей Константинович слабо разбирался в новых хозяйственных отношениях. Крестьяне из одной кабалы попали в другую, но если, по словам Достоевского, помещики «хоть и сильно эксплоатировали людей, но все же старались не разорять своих крестьян, пожалуй, для себя же, чтоб не истощать рабочей силы», то новому сельскому капиталисту или кабатчику «до истощения русской силы дела нет, взял свое и ушел».
Возмущало Толстого и поведение духовенства. Краснорогский священник отец Гавриил брал с голодных крестьян 25 рублей за венчание и не меньше за крестины, похороны. «Это же позор, что единственный носитель просвещения, священник, вызывает в деревнях ужас, что он тиран, и крестьяне не любят его, а боятся».
Некогда очень богатый человек, Толстой теперь постоянно нуждался в деньгах. Прежде он барственно отказывался от гонораров, а теперь много пишет ради денег и даже просит работы у Стасюлевича, этого приказчика новых хозяев страны: «Не нужно ли Вам перевода чего-нибудь сериозного (а пожалуй, и нет) с французского, немецкого, итальянского, английского или польского языка? Разумеется, за плату, и что вы даете за хорошие переводы?»
Но гонорары не покрывали расходов. Имущество закладывалось и распродавалось...
Жизнь в Красном Роге, видимо, обходилась дешевле, чем в других местах, и потому Толстой будет теперь обитать здесь постоянно, выезжая лишь на курорты для поправки совершенно расстроенного здоровья. У него сильнейшие головные боли, но он работает не покладая рук. Единственное отдохновение его - охота.
Красный Рог хорош во все времена года. Вот описание из письма-приглашения поэту Полонскому: «Если бы Вы знали, какое это великолепие летом и осенью: леса кругом на 50 верст и более, лога и лощины такие красивые, каких я нигде не видел, а осенью... не выезжаешь из золота и пурпура... До того торжественно, что слезы навертываются на глаза». Весной цветет алый шиповник. Хорошо с Андрейкой, уже приехавшим в отпуск гардемарином, провести весеннюю черную теплую звездную ночь у пылающего костра в лесу. В соседнем болоте кричит цапля. Но вот глухарь начинает свою загадочную и вызывающую песню. Нет ничего более поэтичного и прекрасного, чем увидать в свете луны глухаря, красующегося на еловой ветке. Весенние леса - «журавли трубят в горн, утки дуют в трубы, дрозды играют на гобоях, а соловьи - на флейтах».
А тем временем на столе уже лежит тысяча «новых стишков».
Той весной Гончаров в письме поругивает Толстого за балладу о Гаральде, а больше пишет о заговорах против себя, мщении, шпионстве даже, о подозрениях относительно Тургенева и Стасюлевича. Тут как раз подоспел оттиск первой части «Обрыва». Вспомнили чтения в спальне Софьи Андреевны, которая частенько делала замечания:
- Иван Александрович, тут надо, чтоб бабушка не скинула, а надела чепец...
Гончаров рассердится, а потом подумает, заулыбается и исправит. Умница Софья Андреевна - не было стихотворения, которое не прочел бы ей Толстой (как она всегда называла его), доверяя ее безупречному вкусу.
В 1869 году Алексей Константинович собирался поехать в Рим. Но не поехал и только усердно переписывался с друзьями и знакомыми. Особенно длинное письмо он написал Сайн-Витгенштейн, которая решила, что он не приехал в Рим, желая работать «в атмосфере родины». Нет, не потому он не поехал в Рим. «Я останусь в России не для того, чтобы поближе видеть Россию. Страшно сказать, но не только любишь больше свою страну издали, но и видишь ее лучше, и лучше понимаешь. Вспомните, что наш величайший гений, Гоголь, тот, который с полной справедливостью может называться всемирным гением, написал свои «Мертвые души» в Риме». Но истинной причины своего нежелания ехать Толстой все-таки не объяснил. Он писал о лесах, перерезанных полями, о соловьях, кукушках и лягушках. Он ловит себя на том, что становится болтливым в письмах, вдруг осознавая, что напоминает пьяницу - славянина, который пьет одну воду месяцами, но уж если запьет...
А дело в том, что следовало экономить и попытаться поправить хозяйство. Очень скоро он опять признается Погодину: «Агроном я плохой, администратор также, деревней я наслаждаюсь с точки зрения Фета (его прежней точки зрения, а не теперешней)...»
Все чаще он предается воспоминаниям о юности. Ведь это Погодин настоял в 1835 году, чтобы Толстого допустили к экзамену в Московском университете.
А тут как раз сцепились Маркевич со Стасюлевичем по поводу классической и реальной систем образования. Толстой, как и Маркевич с Катковым, стоял за классическую, но не признавал дискуссий, в которых публично полоскалось грязное белье.
Стасюлевич и Маркевич
Вместе побранились;
Стасюлевич и Маркевич
Оба осрамились...
В сентябре Толстой опять ездил на лечение в Германию и Карлсбад. В Веймаре посетил дом Гёте. Ничего не переменилось здесь с тех пор, как Толстой мальчиком побывал в этом доме, - та же мебель и на том же месте, но пахло пылью, молью. Толстому было грустно и хорошо. Когда-то дом Гёте показался ему роскошным, а теперь беднее краснорогского. Гёте, видно, гордился гипсовыми статуями, крашенными под бронзу, чего не потерпели бы Разумовские и Перовские, так старавшиеся украсить дом в Красном Роге.
В эту поездку Толстого покорил Вагнер. Ему все прежде внушали, что композитор не признает мелодии, а Толстой, начиная с великолепного хорала в увертюре «Тангейзера», не пропустил до конца оперы ни одной ноты и не почувствовал ни одной минуты усталости.
В октябре Алексей Константинович вернулся в Красный Рог и закончил «Царя Бориса». Он доволен и считает, что хоть сюжет и незамысловат, но цветов и красок тут больше, чем в первых двух трагедиях. Наконец здание окончено. Он не раз повторял, что, создавая трилогию, бессознательно придерживался древнего архитектурного правила для трехэтажных зданий: внизу дорический ордер, потом ионический и, наконец, коринфский.
Теперь можно окинуть взглядом этот громадный, растянувшийся почти на целое десятилетие труд. Итак, у власти стоят три совершенно разных человека. Неограниченный произвол Ивана Грозного ослабляет страну. Правдивый, честный, но слабый Федор «хотел добра... все согласить, все сгладить» и оказывается затолканным толпой воспрянувших честолюбцев. Умный, государственно мыслящий, волевой Борис Годунов становится жертвой собственного преступления, сводящего на нет в глазах народа все его заслуги. Смутное время грядет, и в трилогии уже заложено понятие о разрушительных силах, которые вырвутся на волю в период междувластья.
Выходит, Россия - страна, которая непрерывно катится в пропасть, и какой бы правитель ни приходил к власти, все будет плохо. Так почему же она так и не скатилась в эту пропасть, а выходила из всех бедствий с новым самосознанием, которое позволяло ей в кратчайший срок становиться еще более могущественной? Ответ может быть лишь один - велик русский человек! У Толстого он многолик, психологически необычайно сложен, сметлив, предприимчив. Иван Грозный, Годуновы, Шуйские, Захарьин, Вельский, Сицкий, Битяговский, Кикин, царь Федор, Луп-Клешнин, Богдан Корюков, царица Мария, Мария Годунова, Ирина, Василиса Волохова... Это далеко не все герои и персонажи трилогии, и каждый из них наделен Толстым печатью неповторимости. Пусть ему не нравятся очень многие из его персонажей, пусть каждый из них себе на уме... Вот только что Толстой написал в Берлине стихи на немецком языке: «Гордо шествуют пруссаки. Одно удовольствие смотреть на них: сзади сверкают затылки, впереди сплошная грудь... Они предписывают нам свой кодекс, они творят немецкую историю! И каждая прусская задница считает себя лицом!» В этом нет никакого унижения для немецкого народа, о гении которого Толстой говорил неоднократно. Дело в психологии, в единообразии мышления, в дисциплине, в любви к порядку, которая давала немецкой нации жизнеспособность и силу. Но нет ли силы и в видимом отсутствии порядка у русских людей, столь разнообразных, столь самостоятельно мыслящих? Когда они складываются в народ, то иной раз минусы, помноженные на минусы, дают плюсы, что в конце концов приводит в недоумение здравомыслящих немцев и других иностранцев, мучительно старающихся разгадать «русскую загадку».
Разумеется, в совокупности действующих лиц толстовской трилогии не весь народ. Но как любопытно вглядываться в эти характеры и еще держать рядом «проекты постановок», которые сами по себе являют увлекательное чтение, психологически очень острое.
У Толстого все герои - чисто русские люди. И действуют они в типично наших обстоятельствах, переживших век, охватываемый трилогией.
Советский исследователь творчества поэта И. Ямпольский совершенно верно отмечает: «Показателен, например, следующий эпизод, происходивший на спектаклях «Смерти Иоанна Грозного» в Александрийском театре незадолго до Октябрьской революции. Сцена в Боярской думе вызвала в зрительном зале своеобразную политическую борьбу. Одни аплодировали словам Бориса Годунова и в его лице идее самодержавия, другие - боярина Сицкого. Разумеется, часть публики, аплодировавшая Сицкому, меньше всего думала о том, что он является защитником боярских интересов; энтузиазм вызывали его свободолюбивые речи против деспотизма. И это вполне закономерно. Обобщающая сила образов Толстого выводит их за пределы той идейной концепции писателя, к которой они генетически восходят».
Когда «Царя Бориса» стали читать по спискам, которые Толстой послал в Петербург и Москву, пошли толки, что это чуть ли не кощунство - писать о том же, что и Пушкин. Поэт возражал, что то же обвинение можно предъявить и всем живописцам, дерзнувшим писать мадонн после Рафаэля. Конечно, влияния Пушкина трудно было избежать, но оригинальность творения Толстого очевидна. Именно тогда, в ноябре 1869 года, он вспомнил стихи Пушкина:
Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость, и лишний и чужой...
И обрушился на Писарева за его старую статью «Пушкин и Белинский», говорил, что некоторые «истолкователи останутся животными, а Пушкин - поэтом навеки». Вот и Евгений Утин, шурин Стасюлевича, напечатал в «Вестнике Европы» статью «Литературные споры нашего времени», в которой оказывает странную услугу новому поколению, признавая фигуру гончаровского Марка Волохова его представителем. «Отчего люди нового поколения начинают кричать: пожар! - как скоро выводится на сцену какой-нибудь мерзавец?» - спрашивал он Стасюлевича, а длинный роман Ауэрбаха «Дача на Рейне» называл «галиматьей».
* * *
10 июля 1870 года поезд пришел в Дрезден полчетвертого утра. К рассвету Алексей Константинович добрался до гостиницы, но заснуть не мог - болела голова. Он вышел в город, который когда-то так нравился ему, но вид его показался унылым, воздух - дурным, голоса прохожих - отвратительными.
Толстой вернулся в номер и засел за письмо к Софье Андреевне, здоровье которой тоже оставляло желать лучшего.
«...не могу лечь, не сказав тебе то, что говорю тебе уже 20 лет, - что я не могу жить без тебя, что ты мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал 20 лет назад. Кровь застывает в сердце при одной мысли, что могу тебя потерять, - и я тебе говорю: как ужасно глупо расставаться! Думая о тебе, я в твоем образе не вижу ни одной тени, ни одной, все - лишь свет и счастье...»
Он подумал, что надо бы попросить Софью Андреевну собрать все, что написано о Новгороде. Пусть пришлет материалы о новгородских обычаях, о взаимоотношениях вече с князем. Имена, улицы, должности - все понадобится для новой драмы, а сюжет такой - представить человека, который, чтобы спасти город, берет на себя кажущуюся подлость.
Естественно было бы после трех трагедий перейти к «Дмитрию Самозванцу», но уж больно заезжена эта тема. Зимой, покончив с «Царем Борисом», он нашел сюжет в истории Новгорода XIII века.
Город обложили суздальцы. В Новгороде еще существует вече - буйное, строптивое сердце вольного города. Одни из новгородцев готовы лечь костьми, но не признавать власти князя. Воевода Фома со своими сторонниками стоит за подчинение суздальскому князю. По настоянию посадника Глеба Мироныча воеводой становится боярин Чермный, искусный полководец, под руководством которого отбиваются все приступы. Усталый, он засыпает мертвым сном, а его любовница Наталья, желая спасти своего брата, похищает у боярина ключ от тайного хода из кремля. Брат приводит суздальцев в город. Однако враги перебиты, и народ требует от Чермного ответа. Посадник, понимая, что Чермный очень нужен теперь городу, берет вину на себя. Вече осуждает его на изгнание...
Таков замысел, который Толстой продумал, а в Карлсбаде стал записывать прозой наскоро, карандашом, действие за действием, «чтобы войти в охоту и набросить краски», только имена действующих лиц, упомянутых нами, появились позже.
Павлова одобрила сделанное, но, когда он вернулся в Красный Рог, больная и раздраженная Софья Андреевна отозвалась неодобрительно о «Посаднике». У Алексея Константиновича и руки опустились. Вопреки склонностям он взялся за хозяйственные дела. Управляющий «съел» три четверти доходов с имения. Пришлось опять менять его. Лишь время от времени писал стихотворения, которых у него набралось уже «достаточно» - «1500 ненапечатанных стихов». Отдал дань он и новгородской теме, написав «Ушкуйника»:
Одолела сила-удаль меня, молодца,
Не чужая, своя удаль богатырская!..
К февралю 1871 года Толстой заглянул в рукопись «Посадника» и стал перекладывать драму на стихи.
«И о чудо! тотчас все очистилось, все бесполезное отпало само собой, и мне стало ясно, что для меня писать стихами легче, чем прозой! Тут всякая болтовня так ярко выступает, что ее херишь и херишь!» Это он написал Полонскому в ответ на присланное письмо и сборник «Снопы», который тот издал на деньги, заработанные гувернерством у миллионера, железнодорожного концессионера С. С. Полякова. «Мне кажется - я или на границе умопомешательства, или накануне бешенства...», - жаловался Полонский. Толстой посочувствовал ему.
И у самого жизнь была несладкая. Хозяйственные расходы удалось сократить. Разобрался в ведомостях - на бумаге продавался пуд хлеба, а на деле - два. Появилась лишняя тысяча рублей, да и ту в марте истратил. «Везу Софью Андреевну в Одессу советоваться у доктора, - писал он Бобринскому 4 марта. - У нее уже с месяц болят глаза, все сильнее и сильнее, оттого что она испортила их чтением при лампе и ночью, и теперь совсем не может читать».
В эти последние годы Толстой понес много утрат.
Умер отец, Константин Петрович. Последние годы он жил скромно. Сын со снохой изредка навещали его в маленькой петербургской квартире. От имений он давно отказался. Много молился. В завещании своем написал:
«Друзей моих, буде я кого-нибудь огорчил словом или делом, прошу меня простить от души, равно и я прощаю от чистого сердца всех, от кого-либо имел неудовольствие или обиду, и не понесу за предел гроба моего ни злобы, ни ненависти ни на кого...»
Свое небольшое имущество - бронзу, серебро, книги - он оставил брату Федору Петровичу. Медали и некоторые портреты просил передать жене сына Софье Андреевне, а сыну - аттестаты, коробку с орденами, писанный красками свой портрет и золотую табакерку.
Алексей Константинович тоже все чаще думал о смерти и в 1870 году составил завещание, по которому все движимое имущество и сочинения переходили в собственность Софьи Андреевны, а имения - Красный Рог, Погорельцы, Пустынька и земли в Байдарской долине, в Крыму, - должны были перейти после смерти Софьи Андреевны «в вечное и потомственное владение» брата Николая Михайловича Жемчужникова. С согласия Софьи Андреевны он позаботился о том, чтобы фамильное имущество в конце концов вернулось в его род.
Толстой очень любил своего племянника Андрея Петровича Бахметева, Андрейку. Теперь тот учился в морском училище (кадетском корпусе), но тосковал по домашней жизни. Видимо, он спутался с какой-то веселой компанией, наделал долгов и просил взять его из училища. Алексей Константинович наотрез отказался это сделать. Они с Софьей Андреевной были одного мнения - честь требует, чтобы Андрей не бросал службы. Толстой не очень ловко читал ему мораль, уговаривал не подражать «развратным и бессовестным товарищам», советовал покаяться перед Софьей Андреевной, и если уж ему будет невмоготу, то они переведут его в другое училище. Но самое главное - оставаться честным человеком, идти своим путем...
И все-таки они забрали Андрейку в Красный Рог, потому что он заболел чахоткой, все зяб, кутался в широченные дядины халаты, пил молоко с каплями, прописанными доктором, и в 1872 году угас. Судя по письмам Алексея Константиновича, который начинал их со слов: «Милый ты мой маленький, хороший мой!», он всегда относился к Андрейке как к родному сыну и очень горевал, когда того не стало.
Но все эти скорбные события, прогрессирующая болезнь не сломили духа Алексея Константиновича, не приглушили его живейшего интереса к событиям тогдашней общественной жизни, к литературным новостям, не прекратили лихорадочных бдений над бумагой, появления все новых сатир, превосходных баллад и лирических стихотворений. Он подбадривал Гончарова, не находившего себе места в новой действительности, где все казалось тому враждебным, во всем мерещился подвох, но слова, обращенные к тоскующему писателю, были отражением собственных ощущений.
Не прислушивайся к шуму
Толков, сплетен и хлопот,
Думай собственную думу
И иди себе вперед!
До других тебе нет дела,
Ветер пусть их носит лай!
Что в душе твоей созрело -
В ясный образ облекай!
Тучи черные нависли -
Пусть их виснут - черта с два!
Для своей живи лишь мысли,
Остальное трын-трава!
Все так же он обращается в своем творчестве к новгородскому и киевскому периодам нашей истории. Он восторгается древней архитектурой и «выстроил бы стеклянный колпак» над разрушающимся дворцом в Боголюбове. Его волнуют международные дела, угрозы Пруссии и Англии в адрес России. Если будет война, он не останется в стороне. «Я же пойду в саперы, чтобы не брить бороду, и уж тогда - Европа держись! Представляю себе ее испуг». За шутливым тоном непреклонная решимость.
Его любовь и тоска предельно обнажены в лирике. Он по-прежнему весь искренность. Самые сложные чувства воплощаются в стихах ясных, точных и настолько мелодичных, что они становятся песнями. В последние годы жизни он пишет стихотворения «Темнота и туман застилают мне путь...», «Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо...», «На тяге», «Прозрачных облаков спокойное движенье...» А кто не вспомнит «пасторали», так пленившей Чайковского и Римского-Корсакова?
То было раннею весной,
Трава едва всходила,
Ручьи текли, не парил зной,
И зелень рощ сквозила...
Вызывает уважение стоицизм, с которым он переносит неприятности. Толстого отличало светлое мироощущение, дар неустанно любоваться людьми и природой. «О лес! о жизнь! о солнца свет!» Он часто печален, а печаль - чувство глубоко личное, лишенное какой бы то ни было мизантропии. Кого винить?
Про подвиг слышал я Кротонского бойца,
Как, юного взвалив на плечи он тельца,
Чтоб силу крепких мышц умножить постепенно,
Вкруг городской стены ходил, под ним согбенный,
И ежедневно труд свой повторял, пока
Телец тот не дорос до тучного быка.
В дни юности моей, с судьбой в отважном споре,
Я, как Милон, взвалил себе на плечи горе,
Не замечая сам, что бремя тяжело;
Но с каждым днем оно невидимо росло,
И голова моя под ним уж поседела,
Оно же все растет без меры и предела!
А сколько в балладах и былинах этих лет жизненной силы, лукавства, задиристости! «Поток-богатырь», «Порой веселой мая...», «Илья Муромец», «Сватовство», «Алеша Попович» с их культом молодечества, природы, с их верой в светлые начала. Романтика «Канута» и «Слепого»...
Он не изменил своим убеждениям, не отступился от них ни на йоту. Как-то Стасюлевич, подыгрывая ему, сказал о нигилизме - «дрянность, блохи, мазурики, нечистота», и Толстой ответил ему: «Позвольте мне в этом случае взять сторону нигилисма и защитить его от Вашего пренебрежения. Он вовсе не дрянность, он глубокая язва... Он вовсе не забит и не робок, он торжествует в значительной части молодого поколения; а неверные, часто несправедливые, иногда и возмутительные меры, которые принимала против него администрация, нисколько не уменьшают уродливости и вреда его учения».
Алексей Константинович выступал против репрессий. Он за полемику, за сатиру, за борьбу в равных условиях. Смех убивает нелепость лучше запретительных мер. А он, Толстой, оказывается «между двух огней, обвиняемый Львовым и Тимашевым в идеях революционных, а газетными холуями - в идеях ретроградных. Две крайности сходятся...». И ведь верно - он выставлял со смешной стороны раболепство перед царем, писал сатиры на пьянство, на спесь, на взяточничество, «и никому не приходило в голову этим возмущаться». Другое дело - нигилизм.
«Нигилисм будет отрицать все на свете, но его самого никто не смей отрицать! Гвалт! Это еще одна смешная его сторона, которую следовало бы выставить. Доктор Боткин, с которым я иногда спорил в Карлсбаде о нигилисме, приводит в его защиту, что из его среды вышли дельные люди и даже дельные женщины. Слава богу! Хорошо сделали, что вышли, а не остались».
Иногда хочется плюнуть на все и кричать лишь: «Да здравствует человечность и поэзия!» Особенно ранним утром в Красном Роге, когда петухи поют, будто они обязаны по контракту с неустойкой. Повар Денис и кухарка Авдотья затопили на кухне, чтобы печь хлеб. В деревне зажглись огоньки... Так бы вот и прожить жизнь, но надо везти жену в Венецию или Пустыньку. «Ей хочется узнать, существует ли Наполеон III или нет?.. Какое мне до этого дело? Я знаю, что есть Денис и есть Авдотья, и мне этого достаточно... Черт побери и Наполеона III, и даже Наполеона I! Если Париж стоит обедни, то Красный Рог с его лесами и медведями стоит всех Наполеонов, как бы их ни пронумеровали».
И все-таки приходилось ездить за границу на лечение. Елизавета Матвеева, двоюродная сестра Алексея Константиновича, навестила Толстых, живших зимой 1873/74 года в Ментоне вместе с семьей Алексея Жемчужникова. Она вспоминала, что лицо Алексея Константиновича было постоянно багровым, пронизанным толстыми синими жилами. На него было мучительно смотреть. Но как только боль немного утихала, он снова шутил и всех смешил.
Толстые жили в старинном доме среди запущенного сада. Дом «покоем» выходил к морю и был выкрашен розовой краской и размалеван голубями, головками девушек. Толстому нравилось это жилище, до которого в шторм долетали с моря брызги, стекавшие по стеклам.
Матвеева ревниво подозревала Софью Андреевну в неискренности, в игре по отношению к Алексею Константиновичу и тут же с женской непоследовательностью отмечала, что «ее внимательный уход за Толстым... был очень трогательным». Однажды вечером все перебрались на плоскую крышу. Море успокоилось, искрилось в лунном свете. Толстой уверял, что чувствует себя хорошо, перекидывался с Алексеем Жемчужниковым шутками, забавными воспоминаниями, стихотворными экспромтами.
Вдруг он сказал:
- А что, как вы думаете, вот бы кто-нибудь нам с моря серенаду спел! Хорошо бы!
И вдруг послышался плеск весел. Поравнявшись с домом, гребцы подняли весла, послышались аккорды гитары, и красивый, сильный тенор запел по-русски:
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят...
Толстой встал, взволнованный. Это была его песня. А бархатный тенор все пел:
В очи тебе глядючи, молча слезы лью,
Не умею высказать, как тебя люблю.
«Я взглянула на Толстого, в его глазах блестели слезы», - вспоминала Матвеева. Лодка поплыла дальше.
На другое утро разговор коснулся происшествия предыдущего вечера. Софья Андреевна сочла это каким-то абсурдом. Толстого, видимо, покоробили ее слова, но он ничего не сказал.
Родные Толстого так и не примирились с его женитьбой на Софье Андреевне. Софья Алексеевна Львова вспоминала о покойной матери Толстого, своей сестре:
- Бедная, бедная Анна! Если б она знала!..
Дочь Софьи Алексеевны, Елизавета Матвеева, тоже предубежденно относилась к этому браку, запоминала размолвки между супругами. Ей даже показался странным девиз Софьи Андреевны: «Я ищу, но все подвергаю сомнению». Когда она это сказала, Толстой будто бы очень страдал.
Было это уже в Карлсбаде в 1874 году. На другой день во время прогулки по тенистой дорожке, после того как Толстой выпил свою воду, Матвеева спросила:
- Алеша, ты веришь в бога?
Он хотел было по обыкновению ответить шуткой, но передумал и конфузливо ответил:
- Слабо, Луиза!
- Как! Ты не веруешь! - воскликнула Матвеева.
- Я знаю, что бог есть, но...
- Алеша, ты на себя клевещешь, - перебила его сестра и разразилась длинной тирадой, отчитывая Толстого за то, что он завалил свою веру «всяким хламом».
Тут же она сделала вывод, что во всем виновата Софья Андреевна, которая, однако, была «хороший критик и чутко подмечала все, что касается изящества формы, но она мертвящим дыханием сомнения и неверия глушила порывы души мужа». Она-де и «крылья ему обрезала» в разгар работы над «Посадником». И в то же время она говорит о том, как внимательно слушала Софья Андреевна, когда Толстой читал ей свои произведения. Алексей Константинович боготворил Софью Андреевну и писал ей за два года до своей смерти из Рима: «Во мне все то же чувство, как двадцать лет назад, когда мы расставались - совершенно то же». 28 сентября 1875 года, ровно за три месяца до кончины, он напишет из Карлсбада: «А для меня жизнь состоит только в том, чтобы быть с тобой и любить тебя, остальное для меня - смерть, пустота, Нирвана, но без спокойствия и отдыха».
На нивы желтые нисходит тишина;
В остывшем воздухе от меркнущих селений,
Дрожа, несется звон. Душа моя полна
Разлукою с тобой и горьких сожалений...
В тот год в Карлсбад из Лейпцига приехало какое-то немецкое ученое светило. Толстому захотелось его «огорошить», и он втянул в разговор жену. А разговор шел о древней истории, и уже через полчаса профессор был положен на лопатки. Он только в восторге всплескивал руками.
- В первый раз встречаю такую эрудицию в женщине!
Толстой наблюдал за схваткой с превеликим удовольствием.
Софья Андреевна говаривала, что не любит людей «нараспашку», ей нравилось «отгадывать» таких, про которых нельзя заранее сказать, что он сделает или скажет. Она любила сильные ощущения, то, что, по ее словам, «царапает нервы».
Лечение в Карлсбаде не приносило Толстому облегчения. Лето было жарким, в тесной долине с каждым днем становилось все более душно. И все же он пытался работать. Елизавета согласилась стать переписчицей его произведений и каждый день проводила несколько часов в его кабинете. Подготовку издания книги она начала с лирики, баллад и былин. Толстой предварительно просмотрел все, чтобы не попалось стихотворение, которое, по его мнению, было бы неприлично читать девушке.
Она писала за столом, а он лежал на полу, на матрасе за ее стулом, положив на голову мешочек со льдом. Адски болела голова, но, как только становилось легче, он вставал, садился рядом с сестрой, диктовал, иногда по памяти, часто останавливал запись, менял кое-что. Потом снова бывали такие приступы боли, что он не мог сдержать стона. И тогда он капризничал, ему казалось, что поля узки, что много описок. Переписывая «Алешу Поповича» в пятый раз, Матвеева не сдержала слез. Вошедшая Софья Андреевна тотчас заметила ее красные глаза и напустилась на Толстого:
- Что ты ей сделал? Отчего она плакала?
На другой день Алексей Константинович встретил свою Луизу, стоя на коленях, держа три томика Гоголя на голове (она говорила, что у нее нет сочинений Гоголя).
«Добродетельнейшей Луизе от многогрешного Алексея», - написал он на титульном листе.
В Карлсбад пришел номер итальянского журнала, в котором была помещена статья де Губернатиса о Толстом. «В Италии, - писал критик, - поэт, ходивший на медведя, мог бы показываться за деньги». Он сравнивал Толстого с князем Серебряным и выражал сожаление, что «великий поэт» теперь тяжело болен. Статья кончалась так:
«Желаю, чтобы прежний охотник на медведей и тиранов мог поскорее оправиться и вернуться на поле сражения».
- Берегись, Софа, - сказал Толстой, смеясь, - я уже рукава засучил, сейчас поплюю в ладони и полезу драться.
Толстого (как и Тургенева, других русских) в Карлсбаде лечил доктор Зеген. Жена доктора считала себя писательницей. Она принимала Толстого восторженно, бросалась целовать ему руки, ахала без конца. Он не знал, куда деваться, и говорил потом:
- Она еще хуже Павловой.
Госпожа Зеген мучила его чтением своего романа, Толстому приходилось хвалить...
- А ведь трудно хвалить сахарную водицу, да еще с бантиком! Я не знал, что сказать, даже в пот ударило, - сказал он, вернувшись в гостиницу.
Однажды у Зегенов стали говорить о русских писателях, о том, что нет хороших переводчиков на немецкий и французский языки. Кто-то сказал, что переводить некоторые русские выражения на другой язык трудно - их просто нет. И тогда Толстой сказал, что Софья Андреевна прекрасно переводит с листа, без подготовки. Принесли томик Гоголя. Софья Андреевна долго отказывалась, а потом стала читать по-французски «Старосветских помещиков» быстро, не запинаясь. И все нашли, что ее перевод лучше и точнее уже изданных.
Луиза уехала. Из Карлсбада пришло письмо:
«...Сюда приехал твой приятель Тургенев. Седовласее, чем когда-либо! Жалуется, как всегда, что сосет под ложечкой, и брюзжит. А жалко все-таки, что отвыкает он от родной почвы, ничего из него больше не будет!»
А Тургенев писал Матвеевой о Толстом:
«Он, бедный, кажется, очень болен, и доктор Зеген отзывался о нем неутешительно... Вижу я Алексея Константиновича, разумеется, почти ежедневно и даже вместе пустился в благотворительность. Он славный человек, и я жалею, что к нему относятся несправедливо...»
Речь шла о чтении в пользу погорельцев из Моршанска. Вспоминал он и о хлопотах Толстого, когда Тургенева арестовали в 1852 году.
Произведения Толстого уже пользовались европейской известностью, его засыпали предложениями о переводах, на немецкий язык его сочинения успешно переводила Каролина Павлова. Но жить с непрерывной головной болью было тяжело, он ходил медленно, осторожно. И несмотря на это, Толстой продолжал много работать, принимая всевозможные средства для успокоения болей.
Николай Жемчужников, приехавший в Красный Рог в августе 1875 года, вспоминал изнуренный вид двоюродного брата, который, однако, бодрился и говорил:
- А я себя чувствую несравненно лучше, совсем поздоровел, и все благодаря морфину. Спасибо тому, кто посоветовал мне морфин.
После изобретения англичанином Вудом подкожного впрыскивания морфий стали усиленно применять в терапии и особенно после Крымской и франко-прусской войн. Но уже вскоре врачи осознали страшные последствия употребления этого наркотика. Едва ли не в тот год, когда Толстому впрыснули его впервые, стали говорить о необходимости дезинтоксикации больных и появился термин «морфиномания».
Да, морфий давал ощущение «хорошего самочувствия», но за временным облегчением наступали еще более жестокие мучения, дозы наркотика все увеличивались...
Маркевич нарисовал характерную картину отравления морфием. 24 сентября 1875 года он писал А. Н. Аксакову из Красного Рога:
«Но если бы Вы видели, в каком состоянии мой бедный Толстой, Вы бы поняли то чувство, которое удерживает меня здесь... Человек живет только с помощью морфия, и морфий в то же время подтачивает ему жизнь - вот тот заколдованный круг, из которого он уже больше выйти не может. Я присутствовал при отравлении его морфием, от которого его едва спасли, и теперь опять начинается это отравление, потому что иначе он был бы задушен астмой».
Толстому лучше дышалось в сосновом лесу, куда его вывозили каждый день. В комнатах стояли кадки с водой, и в них свежесрубленные молодые сосенки.
Как-то показав на дверь на балкон, которая была заперта, Толстой сказал: «Я думаю, вам придется отпереть эту дверь, коридор слишком узок».
Он все увеличивал дозы морфия, чтобы облегчить страдания, и 28 сентября в половине девятого вечера Софья Андреевна, войдя к нему в кабинет, нашла его лежащим в кресле. Она думала, что муж заснул, но все попытки разбудить Толстого оказались тщетными.
Алексей Константинович хотел, чтобы его похоронили в дубовом гробу. Но когда привезли заказанный в Брянске гроб, оказалось, что он мал для его богатырского тела. Наскоро сколотили сосновый, и краснорогские мужики понесли его хоронить на сельское кладбище, что приютилось возле Успенской церкви, которая и поныне стоит у оживленного шоссе, ведущего в Брянск.
Впоследствии прибыл заказанный Софьей Андреевной в Париже металлический саркофаг, в который и поместили сосновый гроб. Саркофаг стоял в склепе у церкви, а когда умерла гостившая в Португалии у племянницы Софья Андреевна, ее тело привезли и положили рядом.
Узнав о скорбном событии, Иван Сергеевич Тургенев прислал из Буживаля (Франция) письмо, помещенное в ноябрьском номере «Вестника Европы». В нем Тургенев перечислял заслуги Алексея Толстого: «Он оставил в наследство своим соотечественникам прекрасные образцы драм, романов, лирических стихотворений, которые - в течение долгих лет - стыдно будет не знать всякому образованному русскому...»
«Всем знавшим его, - продолжал Тургенев, - хорошо известно, какая это была душа, честная, правдивая, доступная всяких добрым чувствам, готовая на жертвы, преданная до нежности, неизменно верная и прямая. «Рыцарская натура» - это выражение почти неизбежно приходило всем на уста при одной мысли о Толстом... Натура гуманная, глубоко гуманная!»
Алексей Константинович Толстой остался явлением уникальным в нашей литературе. Любое подражание ему отдавало фальшью, хотя многих привлекала кажущаяся простота его манеры. Так, Горький советовал одному молодому писателю: «Не попробовать ли вам себя в балладах? Вроде тех, что Алексей Толстой писал? Почитайте-ка его!» Увлекались Толстым и такие непохожие на него поэты, как Блок, Брюсов и Маяковский, который знал его стихотворения «наизусть, от доски до доски». Толстого любят и читают в наше время, потому что произведения его исполнены глубокого смысла, отвечающего и нашим мыслям и чувствам. И еще потому, что он, не переносивший скуки в литературе, писал всегда интересно. Его баллады остаются непревзойденными. Его трагедии всякий раз, когда их ставят, оказываются событием в театральной жизни. Его лирические стихотворения никогда не переставали звучать со сцены в исполнении лучших певцов и декламаторов. П. И. Чайковский писал: «Толстой - неисчерпаемый источник текстов под музыку; это один из самых симпатичных мне поэтов». И так думал не он один. Около ста пятидесяти его произведений положено на музыку. И вот внушительный список композиторов, увлекавшихся творчеством Толстого: Ф. Лист, Н. А. Римский-Корсаков, А. Г. Рубинштейн, А. К. Лядов, А. С. Аренский, М. П. Мусоргский, Ц. А. Кюи, М. А. Балакирев, А. Т. Гречанинов, С. В. Рахманинов, В. И. Ребиков, Н. М. Стрельников, Б. В. Асафьев, М. М. Ипполитов-Иванов, В. С. Калинников, Н. Н. Черепнин, Р. М. Глиэр, С. М. Ляпунов, А. М. Пащенко...
Известен интерес В. И. Ленина к творчеству А. К. Толстого. Томики с произведениями поэта были в его личной библиотеке, и в своих статьях Ленин часто цитировал точные и образные стихи и выражения Толстого, зная их популярность. А вот что вспоминал Бонч-Бруевич об отношении Ленина к Козьме Пруткову:
«В. И. Ленин очень любил произведения Пруткова как меткие выражения и суждения и очень часто, между прочим, повторял известные его слова, что «нельзя объять необъятного», применяя их тогда, когда к нему приходили со всевозможными проектами особо огромных построек и пр. Книжку Пруткова он нередко брал в руки, прочитывал ту или другую его страницу, и она нередко лежала у него на столе».
Многогранный талант Алексея Константиновича Толстого, обаяние его личности, благородство души принесли ему бессмертие.