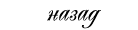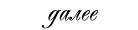Б.Н. Тарасов «Неопознанный Тютчев»
ИСТОРИОСОФИЯ Ф.И. ТЮТЧЕВА В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ
I
Бог, человек и история,
Россия, Европа и революция
5
Приведенные в рамках тютчевской парадигмы выводы и оценки «всей современной мысли после ее разрыва с Церковью» и соответственно стадии цивилизации, в хвост которой мы столь усиленно, сколь бездумно пристраиваемся, игнорируются нами сегодня, но унаследованы и все чаще повторяются западными аналитиками, авторитет которых важен не только по существу разбираемых проблем, но и в своеобразном историко-психологическом отношении. Говоря о сложном, опосредованном западнической традицией (по Тютчеву «жалким воспанием») восприятии собственных духовных достояний, И.В. Киреевский отмечал: «Желать теперь остается нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей Церкви, и написал об этом статью в журнале; чтобы немец, поверивши ему, изучил нашу Церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, что теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем».
Сказанное Киреевским о православии остается верным и применительно ко многим обсуждаемым вопросам. Учитывая навыки такого «ученического» и «подобострастного» (что скажет заграничная княгиня Марья Алексеевна) сознания, будет нелишним привести ряд суждений западных мыслителей, словно идущих вслед за обозначенной Тютчевым и цитировавшимися русскими писателями логикой. Многие из них, подобно Т. Адорно или А. Тойнби, Г. Маркузе или X. Ортеге-и-Гассету, размышляют о примитивной стандартизации межличностных отношений в «индустриальном обществе», о губительном снижении и нивелировке вкусов и потребностей «одномерного человека», предпочитающего подлинной духовной жизни обладание материальными вещами, променивающего «быть» на «иметь». Современный человек, отмечает Э. Фромм, отчуждается от самого себя, ближнего и природы, превращая собственные знания и умения, всю личность целиком в товар и капитал, благодаря которому он должен получить максимально возможную прибыль с учетом положения в обществе и рыночной конъюнктуры: «в жизни нет никаких целей, кроме движения, никаких принципов, кроме принципов справедливого обмена, никакого удовлетворения, кроме удовлетворения в потреблении».
Как бы дополняя вывод Фромма, О. Шпенглер указывает на то, что опошлилось само время, стали привычными и даже привлекательными дурные манеры парламентов, нечистоплотные сделки для легкой наживы, примитивные вкусы в культуре: «Само строение общества должно быть выровнено до уровня черни. И да воцарится всеобщее равенство: всему надлежит быть одинаково пошлым. Одинаково делать деньги и транжирить их на одинаковые удовольствия... большее и не надо, большее и не лезет в голову».
Катастрофические последствия такого мировоззрения, когда «большее не лезет в голову», взволновали и папу Иоанна Павла II, заговорившего в одной из последних речей о тоталитаризме потребления, наживы и прибыли. А широко известный американский политолог 3. Бжезинский, еще недавно прилагавший немалые усилия на «шахматной доске» политики для гегемонии США в противостоянии с СССР, ныне озабочен не только ослаблением России, но и в книге с характерным названием «Вне контроля. Глобальная смута на пороге XXI века» с апокалиптическими интонациями пишет, что идеалы личности как тотального потребителя составляют суть нравственного и жизненного кризиса на Западе, провоцируют процессы разрушения культуры и разложения общества: «Западный человек сверхозабочен собственным материальным и чувственным удовлетворением и становится все более неспособным к моральному самоограничению. Но если мы на деле окажемся неспособными к самоограничению на основе четких нравственных критериев, под вопрос будет поставлено само наше выживание».
Советник президентов Никсона и Рейгана, кандидат в президенты от Республиканской партии на выборах 1992 и 1996 гг. и автор книги с характерным названием «Смерть Запада», Патрик Дж. Бьюкенен утверждает и вопрошает: «Запад умирает. Народы Запада перестали воспроизводить себя, население западных стран стремительно сокращается (...) Новый гедонизм, как представляется, не дает объяснений, зачем продолжать жить. Его первые плоды кажутся ядовитыми. Неужели эта новая культура «освобождения», которая оказалась столь привлекательной для нашей молодежи, на деле станет смертоносным канцерогеном? А если Запад задыхается в хватке «культуры смерти», как однажды выразился Папа Римский и как подтверждает статистика, последует ли западная цивилизация за ленинской империей к бесславному концу?» Далее Бьюкенен рассуждает о новом этапе и своеобразном типе Революции, начавшемся в 60-х годах минувшего столетия, когда через овладение средствами внушения идей и ценностей, образов и мнений, с помощью телевидения и искусства, образования и индустрии развлечений была затеяна «рискованная игра» с дехристианизацией культуры на основе обозначенной Тютчевым коренной альтернативы. «Подобно Люциферу и Адаму, западный человек решил, что он может ослушаться Бога безо всяких последствий и сам стать Богом», пренебречь Божественным Откровением и строить жизнь по представлениям собственного разума. Исторически «подмена потусторонности посюсторонностью - та же самая сделка, которую осуществил Исав, продавший Иакову право первородства за чечевичную похлебку. Дети просвещения стараются реализовать этот план». В результате развитие современной глобалистской экономики, свободного рынка, монетаристской финансовой политики, военных технологий, биологического медицинского знания сопровождается удалением от традиционных христианских ценностей и соответствующих духовных свойств личности к воинствующему мирскому индивидуализму, сфокусированному исключительно на своих материальных потребностях и удовольствиях. Тем самым после многих столетий к нам возвращается язычество, и «цивилизация, основанная на вере, а с нею культура и мораль отходят в прошлое и повсеместно заменяются новой верой, новой культурой, новой цивилизацией». В этом новом мире «боги рынка», деньги, власть, слава, комфорт, секс заменяют Бога Библии, спасение души, духовное совершенствование, жертвенную любовь. И все, что еще недавно считалось постыдным (прелюбодеяния, аборты, однополые браки, эвтаназия, наркотики, самоубийства и т.п.) сегодня выставляется как достижение прогрессивного человечества, а прежние добродетели становятся грехами, грехи же превращаются в пропагандируемые добродетели. «Нынешнюю доминирующую культуру правильнее называть постхристианской, или даже антихристианской, поскольку ценности, ею прославляемые, суть антитезис древнего христианского учения».
Тютчевскую «роковую последовательность отрицания» Бьюкенен обнаруживает и в массовой культуре, и в различных социальных проектах. Так Дж. Леннон, называвший себя «инстинктивным социалистом» и ставший одновременно одним из самых богатых людей на планете, осознавал себя сочинителем «новой веры», собственной версии рая - здесь и сейчас. В одном из интервью он заявлял: «Христианство обречено. Оно увянет и исчезнет. С этим даже не нужно спорить - настолько все очевидно. Я знаю, что прав, а все остальные скоро убедятся в моей правоте. Мы сейчас куда популярнее Иисуса». А Маргарет Санднер, основательница распространившего свое влияние и на Россию общества «Планирования семьи», подчеркивала: «Контроль рождаемости радикалы всячески приветствуют, поскольку он способен подорвать влияние христианской Церкви. Я с нетерпением ожидаю дня, когда человечество освободится от ярма христианства и капитализма».
Религия, настаивает Бьюкенен, есть основа любого великого государства и общества, которые саморазрушаются без нее и основанных на ней добродетелях, без ответа на вопрос о смысле жизни. В «ядовитых плодах нового гедонизма», в различных проявлениях «животных стандартов поведения» и перверсий, в отмирании института семьи и сокращении рождаемости (пустые сердца - пустые дома) он видит признаки глубочайшего упадка западной цивилизации (отмеченные, как известно, еще Тютчевым). «Смерть Запада - не предсказание, не описание того, что может произойти в некотором будущем; это диагноз, констатация, происходящего в данный момент». По его убеждению, вместе с дехристианизацией жизни образуется этическая канализация и духовная пустыня, грядет новое варварство. И преодоление «апокалипсиса культуры», считает он, невозможно на путях политики, пропитанной декадентскими ценностями. Только общественная контрреволюция и духовная борьба с этими ценностями, «перемена настроения», религиозное возрождение способны развеять «сумерки Запада», прежде чем опустится «занавес в финале сыгранной пьесы Homo Occidentalis».
К подобным выводам, как видим, приходят не С.П. Шевырев или A.C. Хомяков, Ф.И. Тютчев или ?.?. Достоевский, но крупнейшие западные аналитики, которые обнаруживают определенное нигилистическое историко-антропологическое содержание во внешних моделях социально-экономического и политического развития. Однако анализ этого содержания и его последствий гниения и распада, как правило, не занимает умы отечественных публичных интеллектуалов, действующих в основном в рамках навязанной модной конъюнктуры и риторики «внешних» преобразований без «внутреннего» человека. А какой, казалось бы, материал для размышлений и для ответа на вопрошания С.Г. Бочарова. Задаваемый им в конце статьи вопрос о возможной судьбе «Русской звезды» самым непосредственным образом связан со способностью к религиозному возрождению (по Тютчеву, «какой час дня мы переживаем в христианстве») и сопротивлению переносимым на «хвосте Запада» трихинам, духовному и физическому вырождению (здесь много внешне парадоксальных, но внутренне логичных закономерностей, например, такой: чем богаче страна, тем меньше рождаемость), дебилизации и инфантилизации человеческого сознания, его растворению в мареве «темной основы нашей природы» и в глобалистской потребительской нирване. В противном случае ответы достаточно ясны, даже в чисто демографическом (уже сейчас катастрофическом) плане, не говоря уже об остальных проблемах.
Однако именно в эту «внутреннюю» сторону политико-идеологический и позитивистско-экономический ум поворачивается с большим трудом. Среди немногих исключений можно отметить статьи и книги А.С. Панарина, в которых идёт речь об «игре на понижение» в постмодернистской политике и идеологии и о деградации внутреннего мира современного человека, отвыкающего от духовных достижений, нравственных норм, высокой культуры и тяготящегося ими. Он рассматривает глобализм как формирование планетарного кочевнического дома, разновидность репрессивной утопии и либеральную машину, которая отсекает все, выходящее за пределы «экономической рациональности», прагматических расчетов, утилитарной выгоды, устраняет все внутреннее и личностное, внеменовое и натуральное с помощью языческого культа силы и массовой культуры. При этом сугубо технологическое отношение к действительности, проект покорения природы и истории ради «морали успеха» сопровождаются усилением безудержного потребительского гедонизма, высвобождением анархо-индивидуалистической и зоологической чувственности, погружением в темную стихию «вечного инстинкта», апологетикой примитива и брутальности, анимализацией и бестиализацией человека. В атмосфере богемной распущенности и безответственности, экстремизма телесного начала, утратившего в поисках все новых и изощренных удовольствий свое истинное назначение (служить орудием и вместилищем высших духовных энергий), откровенного социал-дарвинизма и ничем не сдерживаемого «естественного отбора», пишет A.C. Панарин, распространяются микробы чванливого сибаритства как в мировой предпринимательской среде, так и среди «новых русских». По его заключению, из-за действия этих микробов что-то сломалось в механизме формационного творчества возвышения: вместо продуктивной экономики выдвигается на первый план ростовщическая, паразитарная экономика спекуляций и перераспределений, самоотверженный вдохновенный труд заменяется игровым досугом с его гедонистическими понятиями и обращенностью к декадентской личности, а подлинное качество и функционирование заслоняется престижным имиджем и статусной символикой.
В таком виртуально-реальном мире, продолжает A.C. Панарин, значительную роль начинают играть и становятся носителями постмодернистского нигилизма в политике, экономике, идеологии, культуре блефующие имиджмейкеры-дизайнеры, которые с помощью информационных и манипулятивных технологий должны в принципе продать наихудшее изделие в наилучшей упаковке и придать товарный вид самым обескураживающим явлениям. С особой наглядностью подобные закономерности отразились в постсоветской России, в феномене «новых русских» с их ограниченным культурно-историческим кругозором, глухих ко всему вне пределов «естественного эгоизма» и воспроизводящих себе подобных. «Это - абсурд бытия, сразивший лучших: наиболее искренних, самоотверженных, склонных к воодушевлению. Сегодня эти наилучшие рискуют стать наихудшими - со всеми вытекающими отсюда последствиями для судеб цивилизации. Злосчастный парадокс последних «реформ» в том, что они ознаменовались реваншем наихудшего [«самых слабых в классе учеников», по тютчевской терминологии - Б.Т.] над наилучшим: жульнического «жуирства» над честным трудолюбием, своекорыстия над самоотверженностью, предательства над верностью, недобросовестных имитаций и стилизаций над подлинностью». При этом заостряется внимание на внутренних источниках закономерного превращения мира в войну, когда «темная основа нашей природы» диктует содержание и направление внешних действий. «Нам надо отдавать себе отчет в том, что не желающие прилагать усилий, но желающие всем владеть, по логике самого своего существования являются не пацифистами, а империалистами, несущими психологию будущих рабовладельцев и расистов. Постольку, поскольку действуют технологии манипуляции и обмана, они могут оставаться приверженцами переговорного процесса (как внутри страны, так и на международной арене). Но если эти мягкие манипулятивные технологии дают сбой, глобальный авангард не останавливается перед показательными гуманитарными акциями...»
Игре на понижение в постмодернистской политике, идеологии и культуре A.C. Панарин противопоставляет «большой рассказ» модерна об общечеловеческом будущем, «оптимистическое великодушие Просвещения», «горние универсалии свободного разума», раскрепощение инициативной «фаустовской» личности с ее напряженным творческим дерзанием во всех областях. По его убеждению, «антропологический поворот модерна» определил «аскетическо-героическии этос первооткрывателей рынка» и «продуктивный капитализм», связанный с промышленной цивилизацией и предельной мобилизацией и дисциплиной человеческого разума. Однако, пишет он, «прогресс, это великое слово модерна», предано ныне забвению, новоевропейский проект эмансипации личности незаметно подменен проектом эмансипации инстинкта, главным образом инстинкта удовольствия, а экспрессивность и спонтанность, телесные «праздники раскованности» размывают рафинированные интеллектуальные практики. В результате поле творческого дерзания, свободного труда и рационального усилия превращается в десоциализированное пространство гедонистического индивидуализма, отвыкающего от общественных заданий и обязательств. По его наблюдению, теперешняя глобалистика отличается от глобалистики 60-х годов XX в. тем, что вся критика экономической элиты, алчность которой рождает всевозможные кризисы и деградацию повседневности, превращена в ее апологетику.
Этот переход от модерна к постмодерну, от социально ответственной к декадентской личности, от творческого дерзания и, говоря словами И.В. Киреевского, «промышленного направления умов» к разнообразным паразитарным рентам и авантюрам досугового авангарда A.C. Панарин объясняет незаметным действием своеобразных микробов (эквивалент трихин, незримой богини, демонического начала, иронии истории) и предательством великой гуманистической традиции европейского Просвещения. По его мнению, насущная задача заключается в том, чтобы защитить модерн и перебороть настроение контрмодерна, скорректировать социал-дарвинистскую стихию рынка и опасные одномерности глобализма «с принципиальных позиций высокого гуманизма». Искомая революция сознания, считает он, требует не отказа от западной просвещенческой рациональности или демократических ценностей, а их подтверждения для всех жителей планеты.
Однако, заметим, такой поворот сознания возможен лишь при действенной идеологии и политике, при наличии реальных политиков и идеологов не с темным, а преображенным духовным началом и при формировании соответствующей общественно-нравственной среды. В условиях, когда все идет в обратном направлении и образуются масштабные альянсы на иных основаниях, пожелания подобного рода остаются сугубой риторикой. Главное же состоит в том, что постмодернистский нигилизм вполне закономерно и логично вытекает из модернистского наследия и европейского Просвещения, духовный регресс - из материального прогресса, паразитарная экономика ростовщических спекуляций - из продуктивного капитализма, гедонистические ценности - из промышленной цивилизации, «погружение в телесную стихию вечного инстинкта» - из «горних универсалий свободного разума».
Подобные метаморфозы предугадывал Тютчев. Вспомним хотя бы его размышления о гордыне ума как «первейшем революционном чувстве» и «неистовствах» эмансипированной личности в рамках «антихристианского рационализма», когда на пути «роковой последовательности отрицания» отвергнувший Бога человек разбивает и кумира собственного разума и обоготворяет плоть. Говоря словами А.Ф. Лосева, в картине мира эпохи Просвещения «человек должен был превратиться в ничтожество, и только бесконечно раздувался его рассудок». «Научные» парадигмы «раздувшегося рассудка», утопического гуманизма и просветительского сознания, в лоне которого формировались творческие дерзания и невнятные социальные проекты Нового времени, причудливо сочетали абстрактные идеи свободы, равенства, взаимного уважения и т.п. (можно добавить современные словосочетания: прав человека, общечеловеческих ценностей, цивилизованного общества, нового мирового порядка и т.п.) с материалистическим принижением человека как «подобия Божия», с моральным редукционизмом и отрицанием традиций. «Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали, - писал Энгельс о просветителях. - Религия, понимание природы, общество, государственный строй - все было подвергнуто самой беспощадной критике, все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего... Все прежние формы общества, государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам; мир до сих пор руководился одними предрассудками, и все прошлое достойно лишь сожаления и презрения...».
Своеобразная вражда к прошлому и даже борьба с ним оказались при переходе от теоцентризма к антропоцентризму и последующему индивидуализму необходимыми условиями для более радикального изменения ценностных координат и самой картины мира, в которой христианская традиция и историческая память мешали целиком отдаться рассудочно-эмпирической пустоте настоящего и до конца утратить этическое отношение к действительности. Суду «чистого» разума традиционные идеалы казались «хламом» и «предрассудками», ибо препятствовали возвышению «естественного человека» и сужению его духовного горизонта для особого акцентирования в бытии рационалистических, прагматических, гедонистических сторон. Однако возводимая на «естественных» основаниях постройка вскоре превратилась, по словам того же Энгельса, в «злую карикатуру» на блестящие обещания просветителей. И иного результата по большому счету нельзя было ожидать, ибо в корне такой «естественности» и творческих дерзаний разбухшего рассудка при оскудевающей душе лежала все та же «темная основа нашей природы», способная на свой лад прорастать сквозь устремленность к прогрессу и гуманистическую риторику, республиканские и демократические новшества, научные и промышленные революции. В сознании многих русских мыслителей, следовавших одной с Тютчевым христианской традиции, по отношению к которой «единственное мерило всего существующего» и воинственный утилитаризм испытывали наибольшую несовместимость, всегда настойчиво вставал вопрос о разрушительных последствиях такой несовместимости и о цене «большого рассказа» модерна и «оптимистического великодушия Просвещения». Тютчев писал:
Нет веры к вымыслам чудесным,
Рассудок все опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу,
Как пленников, их обнажил;
Ту жизнь до дна он иссушил,
Что в дерево вливала душу,
Давала тело бестелесным.
Сходное настроение выражено и в стихах Боратынского:
Век шествует своим путем железным,
В сердцах корысть и общая мечта
Час от часу насущным и полезным
Отчетливей, бесстыдней занята.
Исчезнули при свете просвещенья
Поэзии младенческие сны,
И не о ней хлопочут поколенья,
Промышленным заботам преданы.
Дух железного века и опустошающего рассудка уже в первой половине XIX столетия зашел настолько далеко, что И.В. Киреевский с известной долей фатализма отмечал: «Одно осталось серьезное для человека - это промышленность, ибо для него уцелела одна действительность бытия: его физическая личность. Промышленность управляет миром без веры и поэзии. Она в наше время соединяет и разделяет людей; она определяет отечество, она означает сословия, она лежит в основании государственных устройств, она движет народами, она объявляет войну, заключает мир, изменяет нравы, дает направление наукам, характер - образованности; ей поклоняются, ей строят храмы, она действительное божество, в которое верят нелицемерно и которому повинуются. Бескорыстная деятельность сделалась невероятною: она принимает такое же значение в мире современном, какое во времена Сервантеса получила деятельность рыцарская».
Оказавшись в замкнутом кругу эгоцентрических склонностей физической личности и в беличьем колесе бесконечно множащихся материальных потребностей, человек еще более отдалился от бескорыстной духовной деятельности и укрепил свой плен у «темной основы нашей природы», которая и является, так сказать, микробной средой и, подобно течению реки, сносит всякие творческие дерзания и гуманистические проекты «фаустовской» культуры. Поэтому неудивительно, что A.C. Панарину приходится отказываться от защиты модерна, призывов к повторному освоению в мировом масштабе западно-просветительских универсалий и вопрошать: «Главный теоретический и метафизический вопрос: случайна ли эта деградация религии прогресса или в ней с самого начала содержались некие роковые изъяны, предопределившие ее вырождение в новый расизм и социал-дарвинизм?»
Ответ A.C. Панарина на данный вопрос типологически схож с обозначенным выше тютчевским анализом основополагающих проявлений в истории революционного Духа и Принципа. В прогрессе как «великом слове модерна» он видит теперь гордыню ума и неистовство самоутверждения покорителя и завоевателя, сублимировавшего языческий титанизм прометеевского толка и мутировавшего в ницшеанского сверхчеловека или носителя морали успеха любой ценой. «Герои промышленного и экономического прогресса отличаются той же напористостью и безжалостностью, какими характеризовались кровожадные герои «Одиссеи» и «Илиады». Не случаен их антихристианский энтузиазм и презрение к морали смирения. Их энергетика больше питается ненавистью, чем любовью, протестом, нежели терпением, желанием заявить о себе, нежели готовностью помочь тем, кто тихо страдает рядом (...) Прометеева титаническая мораль обращена к силе - будь то экономическая сила буржуазии или политическая сила диктатуры пролетариата. Языческий восторг перед силой и эффективностью - психологическое ядро прогрессистской морали. Как бы ни меняла эта мораль свои плюсы и минусы на противоположные, любовь к левым на любовь к правым и обратно, она неизменно будет обращена против неорганизованных и неэффективных [и, как правило, в духовно-нравственном плане более состоятельных. - Б.Т.]. В этом отношении наблюдается поразительное совпадение между большевистской критикой «дряблого гуманизма» христианского типа и современным либеральным социал-дарвинизмом, с похожим неистовством громящим старую мораль.
Оба вида титанической критики поразительно едины в своей презрительной ненависти к России. «Железные люди» большевизма более всего презирали ее за переизбыток всего того, чему нет места в строю организованной, победоносной публичности тотального государства. У «железных людей» нового социал-дарвинизма Россия - на не меньшем подозрении. Но, чем больше вслушиваешься и в ту и в другую критику старой России (а она сегодня предстает прогрессистскому взору не менее старой, чем сто лет назад), тем сильнее убеждаешься в антихристианской, языческо-титанической подоплеке этой критики».
Отбрасывая «старые просветительские иллюзии» (добро считалось естественно присущим человеку, а зло привнесенным неправильно устроенным обществом) и маргинальные националистические концепции (очередной плагиат у западных ультраправых и воскрешение языческих мифов), A.C. Панарин ищет выхода уже не в просветительско-гуманистическом, как ранее, а в христианском универсализме, единственно способном, если он, конечно, действен, просветлять «темную основу нашей природы» и соединять ее с соответствующим социально-государственным жизнеустроением. Он подчеркивает крах всей эпопеи модерна, уже давно предвидевшийся наиболее чуткими умами, в том числе на самом Западе (некоторые из них упоминались выше), противопоставляет кодексу прогресса, успевшему приобрести расистские черты, христианскую нравственность как основание для преображения «внутреннего» человека и исправление его искривленных связей с другими людьми. «Для того чтобы мобилизовать энергию лучших, а не худших, требуется новая редакция общественно признанных целей. Энергетика самоутверждения [самовластия человеческого Я в терминологии Тютчева. - Б.Т.] десоциализирует людей: новые робинзоны постмодерна не способны не только к настоящей кооперации в рамках сотрудничающего гражданского общества, но и к элементарному цивилизованному и законопослушному поведению. Альтернативная энергетика альтруизма, сострадания, сочувствия - вот источник будущего, который новой пророческой элите предстоит открыть в недрах великой религиозной традиции».
Словно отвечая на вопрос С.Г. Бочарова о возможной судьбе «Русской звезды», A.C. Панарин полагает, что на путях воинствующего экономикоцентризма, рыночного социал-дарвинизма и морали успеха Россия может погибнуть. (Стремление передоверить нормотворческие функции «экономическому человеку», представляющему дельцов, сотворить из него элиту, определяющую цели человечества, приводит к помрачению современного цивилизованного сознания и духовно-нравственной деградации, а на постсоветской почве подобные процессы многократно усиливаются.) Возродиться же она способна, считает он, лишь корректируя фаустовский проект и культивируя посттехнические и постэкономические приоритеты, основанные на религиозной традиции, преображении внутреннего мира человека и преодолении «вторичной животности», сугубо экономической мотивации его деятельности. И вот каков прогноз исследователя: «Судя по всему былая военно-политическая биполярность мира сменяется новой, в которой Америке и России опять отводится роль противоположных полюсов. Те, кто уже решил, что естественный экономический отбор должен довершить свое дело и у потерпевшего народного большинства нет алиби, сосредоточивает свои ряды вокруг США - этого пристанища нового «экономического человека». Те, кого великая религиозная традиция сострадательности к «нищим духом» обязывает не верить естественному отбору и торжеству сильных над слабыми, сосредоточиваются в России и будут сосредоточиваться вокруг нее. Компрадорская элита не в счет - ее представители давно уже чувствуют себя внутренними эмигрантами в собственной стране.
Противостояние Америке как носителю языческого культа силы и успеха уже не будет, как прежде, развертываться в плоскости военно-технического и политического соперничества. В этом качестве роль России как сверхдержавы, по-видимому, принадлежит прошлому. Новое противостояние полюсов экономического человека и человека социального, морали успеха - и солидаристской морали будет протекать в духовной и культурной, ценностной сфере. Те, кого по-прежнему одолевает гордыня успеха, займут позицию америкоцентризма. Но тем, кто не может соглашаться с перспективой вымирания собственной страны и большинства планетарной периферии, предстоит найти основание своей сострадательной морали в великих религиозных традициях, которые намного старше модерна и переживут модерн».
Мы не будем сейчас касаться деталей предложенного вывода. Заметим лишь, что в общем плане он находится в русле акцентированной Тютчевым альтернативы развития человека и истории «с Богом» и «без Бога», подчеркнутой им противопоставленности христианской и языческой государственности, законных и незаконных империй. По убеждению A.C. Панарина, сойти с обозначенного поэтом иудиного пути и скорректировать опасные одномерности глобализма России должен помочь культурный потенциал, коренящийся в ее православном архетипе, оживление «идеала священного царства, основанного на высшей правде и жертвенном служении святой апостольской вере», трезво-сознательное отношение к собственной цивилизационной идентичности. «Драма нашей идентичности связана с тем, что она с самого начала носила не натуралистический характер, не довольствовалась наличностями этнического, географического и административно-державного толка, а являлась по преимуществу ценностно-нормативной, духовной». A.C. Панарин обнаруживает типологически сходный с тютчевским ход мысли, когда пишет о мировом масштабе и идеологическом характере русской духовности, о призвании Святой Руси после гибели Византии сохранять и защищать православный идеал, когда выделяет понятия «христианской имперскости» и «третьего Рима» или когда речь заходит о необходимости «нового подъема первохристианской вселенскости на какой-то новой основе», без чего невозможно преодоление губительных влияний «темной основы нашей природы» в господстве бихевиористских схем (стимул - реакция), в концепции очередного избранничества (золотой миллиард), в обожествлении рыночной системы и распространении глобализма, в диктате естественного отбора как торжества грубой экономической, технической и военной силы, пригнетающей, говоря словами Достоевского, «высшую половину» человеческого существа и духовно-нравственную мотивацию его деятельности.
В определенном смысле словно по-тютчевски размышляет и А. Зубов в упоминавшейся статье о русском народе как глубоко религиозном, унаследовавшем вместе с православием из Царьграда идеал священства и царства. Методологически опираясь на А. Тойнби («раскол в человеческой душе - это эпицентр раскола, который проявляется в общественной жизни»), он, как и автор «России и Революции», подчеркивает «невидимую» взаимосвязь религиозно-антропологических, духовно-нравственных и социально-исторических процессов. «Анализируя государственные дела и их «объективную» полезность или вредность, историк не должен забывать, что внешнее является проекцией внутреннего, общественные дела - реализацией личных принципов, норм, убеждений и верований. От решения человеком «главного вопроса жизни»: кто - он, несовершенный человек, или его Творец - Совершенный Бог, - «мерило всех вещей», - зависит и внутреннее устроение души, и устремление личного делания, и то влияние, которое деятель распространяет вокруг себя». По убеждению А. Зубова, монархия как государственное устройство зиждется на вере в Бога и на божественных законах организации мироздания. И именно эта духовная вертикаль, способная преображать «темную основу нашей природы» и распространять «вокруг себя» соответствующее целеполагание и жизнеустроение, ослаблялась петровскими реформами, в результате которых ценностные ориентации народа изменялись с сотерических на эвдемонические (одна из важнейших целей европейского Просвещения да и сегодняшнего wellfair state). «Петр освободил в душе народа место, до того принадлежавшее Богу, сделав себя и своих потомков на троне «викариями Христа»; большевики, вовсе изгнав из сознания народа жертвенный образ Богочеловека, воздвигли на «святом месте» идеал «человекобогу», которому поклонился в судьбоносные революционные годы русский народ».