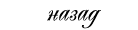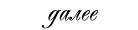Б.Н. Тарасов «Неопознанный Тютчев»
ИСТОРИОСОФИЯ Ф.И. ТЮТЧЕВА В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ
I
Бог, человек и история,
Россия, Европа и революция
4
Поэт констатировал «свойство человеческой природы» - питаться иллюзиями и выдумками собственного рассудка, и потому «люди изрядно глупы, а мир нелеп»; «сверхъестественное» (в смысле не Божественного Провидения, а дьявольского наваждения, герценского «демонического начала» или леонтьевской «незримой богини») через низшие силы человеческой души и страсти проникает в дела мира сего. Тютчева поражала укороченность и бессилие разума по отношению к полноте многомерной и непредсказуемой действительности, в которой, как течением реки, сносятся книзу и искажаются самые благородные помыслы и рациональные расчеты. «В обычное время ужасная реальность жизни позволяет мысли свободно резвиться вокруг себя, и, когда та полна уверенности в своей безопасности и силе, эта реальность вдруг пробуждается и сокрушает ее одним взмахом своей лапы». Подобные диспропорции вызывают в его сознании образы океана бытия и теряющегося в нем маленького островка «человеческого муравейника» или приводят к выводу о «жалком разуме, признающем лишь то, что ему понятно, то есть ничего». Неутешительный вывод поэта можно пояснить высказываниями двух персонажей Достоевского, выражающих выстраданное убеждение их создателя. Герой «Записок из подполья» утверждает, что рассудок захватывает только одну грань жизни и не обнимает всей неохватной совокупности ее проявлений, «и с рассудком и со всеми почесываниями... Рассудок знает только то, что успел узнать (иногда, пожалуй, и никогда не узнает, это хоть и не утешение, но отчего же этого не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно...». Ему как бы вторит Разумихин из «Преступления и наказания», критикующий «научную» идею первенствующей роли экономического благополучия в социалистическом (то же и в капиталистическом) фаланстере: «С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и все на один вопрос о комфорте свести! Самое легкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, и думать не надо! Главное - думать не надо! Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается!» В результате рассудочные теории взыскующей прогресса интеллигенции драматически приводят к неразличению добра и зла и тотальному безумию, ярко изображенному в «Преступлении и наказании». Раскольникову снятся «какие-то новые трихины», «духи, одаренные умом и волей» и вселившиеся в человеческие души: «Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали».
И для Тютчева ничтожность таких основных инструментов разума, как рассудок или логика, заключалась в их несоответствии жизненной тайне, полноте живой натуры и подлинной реальности, неспособности определить, оценить, охарактеризовать и предсказать свою «невидимую» сращенность с «темной основой нашей природы» и зависимость от скрытых страстей и комплексов, от бессознательных «почесываний» и прихотливых движений свободной воли человека, опрокидывающих своей «лапой» теоретические комбинации «правильных» идей и «научных» теорий социально-государственного развития. И «разум угасает», писал Тютчев, при очевидной нелепости, когда, например, «жалкие посредственности, самые худшие, самые отсталые из всего класса ученики, эти люди, стоящие настолько ниже даже нашего собственного, кстати очень невысокого уровня, эти выродки находятся и удерживаются во главе страны, а обстоятельства таковы, что нет у нас достаточно сил, чтобы их прогнать (...) Это страшная проблема, и разрешение ее, истинное и в полной мере разумное, боюсь, находится вне наших пространных рассуждений. Есть одно несомненное обстоятельство, но до сих пор оно еще недостаточно исследовано... Оно заключается в том, что паразитические элементы органически присущи святой Руси... Это нечто такое в организме, что существует за его счет, но при этом живет своей собственной жизнью, логической, последовательной и, так сказать, нормальной в своем пагубно разрушительном действии. И это происходит не только вследствие недоразумения, невежества, глупости, неправильного понимания или суждения. Корень этого явления глубже и еще неизвестно, докуда он доходит».
Вот бы и докопаться С.Г. Бочарову с помощью критического анализа (вместо оценочных суждений и вопросительных деклараций) до корня «страшной проблемы» и ее различных воплощений в увлечениях западными революционными теориями и практиками в глубоко православной стране, в метаморфозах превращения христианской империи в советскую, в противоречивых судьбах славянского единства и т.п. А заодно и проблемно заострить воспроизведенную в перестроечное время модель «Бесов» (закономерное перерастание через ведущие силы и свойства «темной основы нашей природы» «чистого» западничества и либерализма в «нечистый» нигилизм и терроризм). Тогда бы мы внятнее отнеслись к «нормальному» и «логическому», а не к «глупому» и «недоразумительному» развитию событий, условно говоря, - от гуманиста и правозащитника A.C. Сахарова к провозглашенным новыми Столыпиными реформаторам (какие они в классе ученики, с их унаследованным вульгарным материализмом и панэкономическим кругозором, тоже было бы не лишним уточнить), а затем к олигархам и уголовникам. Тем более что сам Тютчев дает универсальный ключ к рассмотрению подобных перерождений, обозначив возможный постхристианский контекст и иудин дух развития отрекшегося от Христа человека и человечества, когда, как отмечалось выше, совершается «роковая последовательность отрицания», а самозванный разум - «отшепец» разбивает и собственный кумир, приходя к необходимости обоготворения плоти и порабощения ею.
Вот бы и задуматься вслед за Тютчевым над тем, как в условиях оскудения веры и овеществления духа, «призвания к низости» и «болезненного неистовства» индивидуалистического принципа «злобная ирония истории» («трихины», «демоническое начало», «незримая богиня» в терминах Достоевского, Герцена и К.Н. Леонтьева), а на самом деле «темная основа нашей природы» работает не только с проектами Тютчева (к ним мы еще обратимся), но и с ценностями современной цивилизации, как выдавливающие из себя по капле раба «младореформаторы» оказываются в новом рабстве у мамоны и обоготворенной плоти. Это тем более важно, что нынешние властители дум почти с религиозным трепетом твердят о правовом государстве, демократии или рынке и отказываются видеть в данных понятиях и явлениях не только оборотные, но и даже очевидно противоречивые стороны, не задумываясь о неизбежных и естественных, «нормальных» и «логических» в лоне обозначенного Тютчевым контекста последствиях общего хода жизни, не возвышающего и одухотворяющего, а все более принижающего и примитивизирующего основные мотивации человеческого поведения и деятельности. В пылу неофитского первооткрывательства и наивно-пристрастной идеализации ценностных координат «цивилизованного общества» за бортом сознания оказываются те процессы, которые по-своему формируют и обрабатывают духовно-психологический мир человека, укореняют его волю в низших этажах жизни, упрочивают и утончают своекорыстие, «исключительный эгоизм» нашей природы в рамках денежного абсолютизма, воинствующего экономизма, юридического реализма и сциентизма. В лучшем случае из уст сегодняшних государственных мужей, политиков и вслед за ними деятелей литературы и искусства можно услышать изредка охлаждающие слепой восторг коррективы - слова о том, что юридические гарантии несовершенны, но лучшего люди не придумали, что в демократических институтах достаточно зла, но зла наименьшего.
Однако при таком количественном подходе забывается и не берется в расчет, что и наименьшее зло не может давать добрых всходов, способно в определенных обстоятельствах к неограниченному росту и ежесекундно творит условия, в которых формальное равенство оборачивается реальным неравенством, закон обрастает двойными стандартами, богатство порождает нищету, мир готовит войну и слышится, говоря словами Чаадаева, «треск машины» бытия. И в этом отношении и процветающий терроризм, и активность тоталитарных сект, и коррупционный вал, и двойные стандарты, и увеличение числа самоубийств и наркоманов, и рост фашистских настроений, и войны в центре Европы, и многое подобное на Западе не является случайным и неожиданным, а оказывается вполне «нормальным» и «логичным» результатом обозначенных Тютчевым магистральных нисходящих тенденций - оскудения веры и овеществления духа, дехристианизации общественной жизни, сплошной материализации и эгоизации человеческих желаний. И никакие дружественные договоры и «новые порядки» не способны предотвратить катастрофу, если сохраняется «низкое» состояние человеческих душ, видимое или невидимое соперничество которых порождает все новые материальные интересы и соответственно требует скрытого разнообразия всевозможных захватов. И тем самым мирное время технических и иных бескровных революций, если оно не способствует преображению и просветлению эгоцентрических начал человеческой деятельности, накапливает враждебный потенциал и готовит грядущие катаклизмы. Ведь смена идеологических теорий или обновление социальных институтов, технологические успехи или законодательные усовершенствования, экономический рост или создание рабочих мест, декларации «нового мышления» или благие призывы к мирному сосуществованию без оценки реального качества сопутствующего им человеческого содержания ничего не значат, навевают «оптический обман» и лишь запутывают умы (хотели как лучше). В действительности же все зависит от фактического состояния «внутреннего» человека, от своеобразия его побудительных принципов и направления воли, от степени влияния на него алчности, зависти, тщеславия, властных амбиций или капризов обоготворенной плоти (получается как всегда) и от способности противостоять им (получится как хотелось), выйдя из дехристианизирующего контекста Иуды. «Под громким вращением общественных колес, - заключал И.В. Киреевский, - таится неслышное движение нравственной пружины, от которой зависит все».
Мы еще вернемся к этому выводу, являющемуся важнейшим методологическим принципом (его значение подчеркнуто в одной из недавних новомирских статей) и словно служащему Тютчеву подспорьем для ответов на вопрошания С.Г. Бочарова о природе «оптического обмана» и революционных метаморфоз, о судьбах «Русской звезды» и славянства. Именно духовное состояние общества, усиление или, напротив, ослабление нравственной пружины, преображение или, наоборот, укрепление «темной основы нашей природы», конкретное наполнение человеческих душ и реальные мотивы поведения, а не красивые абстрактные формулы и формальные общественные механизмы всегда служили не только И.В. Киреевскому или Тютчеву, но и другим наиболее глубоким представителям отечественной культуры (не соблазнявшимся «прогрессистскими» идеями) истинным критерием оценки как действительного положения дел в современности, так и возможных перспектив развития человека и творимой им истории.
Это особое методологическое внимание (столь нехарактерное для сегодняшнего дня) к подспудной сращенности людей и идей, к зависимости «внешнего» от «внутреннего» должно, казалось бы, и нас подвигнуть к тому, чтобы обратиться к по видимости простым, а на самом деле к не замечаемым в своей фундаментальной актуальности вопросам, проистекающим, например, из заочной дискуссии между Тютчевым и Белинским (естественным образом сложившейся из-за разности их «консервативного» и «прогрессивного» мышления и помимо их воли). Умиравший от чахотки критик совершал ежедневные прогулки к вокзалу строившейся Николаевской железной дороги и с нетерпением ожидал завершения работ, надеясь на капиталистическое развитие страны в деле созидания гражданского общества и нравственного совершенствования его членов. Белинский думал, что железные дороги победят тройку, просвещение одолеет невежество, а «лучшая, то есть образованная часть общества», следящая «за успехами наук и искусств в Европе», выведет Россию на передовые позиции социальных отношений. Когда через несколько лет после кончины Белинского Николаевская дорога была сооружена и Москва приблизилась к Петербургу на пятнадцать часов езды, Тютчев, признавая удобства такого вида передвижения, в письме С.С. Уварову от 20 августа 1851 г. озадачивался и совсем иными («внутренними») вопросами, нежели те, что волновали ревнителя «внешнего» образования и просвещения. Он утверждал, что материальное единство без духовного приводит к результатам, противоположным искомым чаяниям. «Доказательством может служить то, что происходит сейчас на Западе. По мере того как расстояния сокращаются, умы все более и более расходятся. И раз люди охвачены этим непримиримым духом раздора и борьбы - уничтожение пространства никоим образом не является услугой делу общего мира, ибо ставит их лицом к лицу друг с другом. Это все равно, что чесать раздраженное место для того, чтобы успокоить раздражение...».
Со времен Тютчева расстояния многократно сократились, а раздражения в той же степени умножились. «Внешнее» же сближение людей сопровождается ростом их «внутреннего» уединения и отчуждения. Но мы все еще продолжаем на свой лад воспроизводить старую и давно уже разоблаченную самой историей схему зависимости человека от среды, уповаем на «внешние» достижения очередных инновационных революций и технологий, меняем местами главное и второстепенное, принимаем материальные средства человеческого существования за его высшую цель, заслоняясь от «внутреннего» рассмотрения конкретного душевного содержания и реального состояния сознания современных индивидуумов, с их «почесываниями» и «неистовствами», разговорами о формальных преимуществах тех или иных социальных учреждений и механизмов или абстрактными причитаниями о демократии, общечеловеческих ценностях, рыночных отношениях, правовом государстве и т.д. и т.п. Так называемые «эмпирики» и «прагматики» уповают на передовые технологии, хитроумную расчетливость и пассионарную успешливость, оставляя в стороне «внутреннее» содержание общего хода жизни, имеющего в своей основе не дружбу, любовь и согласие, а конкуренцию, соперничество и вражду, не пресекающего, а распаляющего и утончающего действия восьми «главных страстей», или «духов зла» (гордости, тщеславия, сребролюбия, чревоугодия, блуда, уныния, печали, гнева). В результате возникают как бы неожиданные парадоксы, а на самом деле естественные и неизбежные, «нормальные» и «логические» следствия, когда незаметно дискредитируются гуманистические и демократические лозунги, под угрозой оказываются и собственные тактические расчеты реформаторов, и права человека, разум оборачивается безумием, а новое мышление чревато новым варварством.
Обозначенная Тютчевым парадигма обоготворения плоти в обезбоженной цивилизации с ее предрасположенностью к бестиализации и варваризации подчеркнута М.М. Бахтиным в «Философии поступка»: «Все силы ответственного свершения уходят в автономную область культуры, и отрешенный от них поступок ниспадает на степень элементарной биологической и экономической мотивировки, теряет все свои идеальные моменты (...) Это и есть состояние цивилизации. Все богатство культуры отдается на услужение биологического акта». Господство биологического акта, экономических мотивировок, материальных целей порабощает человека низшими силами всепоглощающей корысти, иссушает высшие силы благородства и подлинной свободы (чести, достоинства, совести, милосердия, самопожертвования и др.), которые превращаются в условную шелуху, едва прикрывающую наготу эгоистической натуры и циничных расчетов, а также «зверит» душу. В клетке сниженных идеалов и при власти потребительской деспотии всегда незримо действует идея естественного отбора, обставленная красивыми речевыми конструкциями о демократическом обществе, диктатуре закона и т.п., закрепляется эгоцентрическое жизнепонимание и усиливается недружественная разделенность людей, множатся обольщения мнимой свободой, оборачивающейся зависимостью от тщеславия, любоначалия и чувственности. На такой темной и злой основе своекорыстия политика, идеология и социальная жизнь всегда порождают явные или скрытые формы ущемления и насилия, ревнивого противопоставления друг другу. И любые попытки преодолеть данное положение вещей на нехристианских принципах, в какие бы человеколюбивые идеи, прогрессивные установления и передовые учреждения они ни облачались, неизбежно заканчиваются в истории лишь перераспределением «суммы» власти, богатства и наслаждений, очередным прорывом фундаментальных установок нравственно холодного и низменного сознания, неспособного пробиться сквозь крепкие решетки эгоистической тюрьмы к душе ближнего.
Тютчевская парадигма и входящие в нее оценки состояния человеческого сознания в стадии дехристианизирующейся цивилизации не вмещаются в одномерное представление о ней отечественных реформаторов, в очередной раз на переходном этапе привязавших свою мысль, говоря словами поэта, к «хвосту Запада». Тютчев был убежденным противником бессознательных заимствований с Запада, перенесения на русскую почву европейских учреждений и институтов без критического анализа перспектив их «внутреннего» человеческого измерения и нисходящего развития. По его убеждению, Россия как христианская империя (об этой парадигме речь пойдет ниже) «самим фактом своего существования отрицает будущее Запада», а потому для правильной ориентации в историческом процессе необходимо было «только оставаться там, где нас поставила судьба. Но таково роковое стечение обстоятельств, вот уже несколько поколений отягощающих наши умы, что вместо сохранения у нашей мысли относительно Европы естественно данной ей точки опоры мы ее волей-неволей привязали, так сказать, к хвосту Запада». Поэт неоднократно размышлял о сложившейся в результате неспособности «различать наше Я от нашего не Я», о «жалком воспитании» интеллигенции и правящих классов, увлекшихся «ложным направлением» подражания Западу: «... и именно потому, что это отклонение началось в столь отдаленном прошлом и теперь так глубоко, я и полагаю, что возвращение на верный путь будет сопряжено с долгими и весьма жестокими испытаниями».
С.Г. Бочаров риторически вопрошает, что сказал бы Тютчев, «увидев собственный народ плагиатором тех идей и утопий, которые он полагал судьбой европейских народов?». Так он же об этом достаточно много говорил и проблемно заострял, словно отвечая и на другие вопрошания и недоумения рецензента и бросая вместо него «критический взгляд» на разрыхляемую русским европейничанием почву христианской империи для более приспособленного построения одной из разновидностей Вавилонской башни, обернувшегося котлованом. Надо только обратить на это внимание, хотя бы и без проблемного заострения.
Долгие и жестокие испытания, которые предсказал Тютчев и которые воплотились не только в событиях 1905-1907 и 1917 гг., но и длятся до сих пор в исторической борьбе Христианства и Революции, должны явиться, по его мнению, следствием двустороннего и взаимосвязанного процесса - «внутреннего» ослабления естественно данной России точки опоры христианской империи и утраты «сознания своего единственного исторического значения» (непонятно, к какой сознательности, апеллируя к Тютчеву, призывает рецензент, но поэт говорил именно об этой - без нее страна и государство обречены на гибель), с одной стороны, и некритическим увлечением западными идеями и ценностями - с другой.
Действительно, усвоение плодов европейского просвещения на русской почве надолго стало и остается огромной проблемой для свободного и самостоятельного развития России. Совершенно необходимые для успешного роста и могущества России заимствования (нужные и теперь) в области экономики, науки и техники при Петре I сопровождались вовсе не обязательным ученическим их абсолютизированием, уничижением православных традиций, усилением деспотических черт в самодержавии, стеснением народной жизни. В конечном итоге Европа стала для России, как ни для какой другой нации, источником не только приемов и методов внешнего прогресса, но и жизненных целей и задач. Между тем каждый народ является особенной, естественно сложившейся личностью, неповторимое лицо, деятельную основу и плодотворную силу которой составляют выработанные веками духовные ценности, лучшие национальные традиции, созданные в процессе народного творчества формы государственного правления и организации общественной жизни. На таком фоне отсутствие внимания к главным конфессиональным, духовным и культурным различиям между Россией и Европой, к принципиальным особенностям их исторического формирования и развития было чревато непредсказуемыми последствиями, химерическим сочетанием разнокоренных традиций, болезненным раздвоением народной личности, взаимным отчуждением разных сословий, забвением духовной сущности родной земли и ее истории. Собственные традиции, нравственные уроки и исторические противоречия забывались настолько, что их приходилось потом открывать, как Колумбу Америку. Именно так, как известно, воспринималась после публикации карамзинская «История государства Российского».
В тютчевское время «старая» Россия, охваченная «новыми» веяниями европейских начал, в очередной раз оказалась на распутье, на границе двух миров, когда подспудное, не всегда выходившее на поверхность общественной жизни противостояние Христианства и Революции в форме борьбы между самобытным развитием и подражательным заимствованием часто создавало ситуацию выбора между «своим» и «чужим», самодержавием и конституционализмом, эволюционными и революционными методами правления. По словам С.М. Соловьева, нужно было выдержать первый напор революционного Запада, его порывистых движений вперед и соответствующих реакций - столь же рьяных отступлений назад. Для решения подобных задач требовались колоссальная духовная энергия и твердые убеждения, глубокое знание собственной истории и живое единство мудрой, волевой и ответственной личности монарха с жизнью всех сословий страны, понимание стратегических перспектив развития человечества «с Богом» или «без Бога», для чего необходимо было трезвосознательное отношение к новым тенденциям и такое же «различение нашего Я от нашего не Я». Однако «дух времени» никак не располагал к подобным подходам. После антинаполеоновской кампании, когда словно вторично было прорублено окно в Европу, разнообразию мечтательных идеалов и невразумительных идей, казалось, не было предела, а «роковое стечение обстоятельств» все чаще сочеталось с усвоением элементов «роковой последовательности отрицания». На «хвосте Запада» приносились и вновь оживлялись пристрастия недавнего времени, веяния материализма, деизма, республиканизма, вольтерьянства, причудливо окрашивавшиеся интересом к мистицизму и католицизму, а позднее и к социализму, коммунизму, анархизму. По замечанию А.Н. Пыпина, русским обществом овладели отголоски «европейского брожения» - от крайнего пиетизма до крайнего политического свободомыслия.
Среди таких отголосков можно отметить увлеченность декабристов республиканскими учреждениями, которые они в теории механически переносили на русскую почву, стремились «пересадить Францию в Россию». Отвлеченность и умозрительность такого перенесения заключались главным образом в том, что оно осуществлялось без соотнесенности с историческим прошлым и национальными традициями, веками формировавшими духовные ценности, психологический и бытовой уклад жизни. «Ученическое» и «подражательное» отождествление «великих истин» свободы, равенства, личного достоинства с деятельностью «чистого» разума, с демократическим правлением, упорядоченным законодательством, успехами внешнего просвещения вступило в противоречие с их благородными намерениями, поскольку в стратегической перспективе открывало дорогу развитию далеких от благородства меркантильных эгоистических отношений, возрастающей нивелировке народов и культур, снижению духовных запросов личности, диктатуре денежного мешка. Так, ведущий идеолог декабризма Н.И. Тургенев связывал «усовершенствование системы представительства народного» с «усовершенствованием системы кредитной», поскольку «век кредита наступает для всей Европы». Однако он реально представлял скрытую порочную основу всех подобных прогрессивных новаций («новейшие народы идут к счастью грязною дорогою» выгод эгоизма и корысти), но не делал должных выводов о социально-антропологических процессах на грязной дороге, об усилении «темной основы нашей природы», возрастании возможности новых войн за переделы рынков и т.д.
Данные выводы, весьма актуальные и в нынешнее время, делали другие представители отечественной культуры, сохранившие христианское мировоззрение и объективно находившиеся в тютчевской парадигме, что давало своеобразный иерархический ключ к пониманию возможных результатов, вытекающих из глубинного исследования тесной пульсирующей взаимосвязи между «психологией» и «историей». Говоря об искусстве Пушкина, Л.Н. Толстой заключал: «Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии и смешение низших с высшими, или принятие низшего за высший есть один из камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства». Сказанное о художественном творчестве может быть методологически отнесено и ко всей жизни в целом. Сейчас, когда иерархическая вертикаль перевернута, а низшее не только смешивается с высшим, но первое агрессивно принимается за второе, духовный и мыслительный опыт Тютчева и его единомышленников, основанный на стремлении соблюсти в бесконечном поле всего бытия «предвечную иерархию» и «гармоническую правильность распределения предметов», как нельзя более насущен. Было бы полезным задуматься над тем, что, например, Пушкин понимал под «неумолимым эгоизмом» и «нестерпимым тиранством» демократии, подавляющим «страстию к довольству» бескорыстные и возвышенные движения души; Гоголь - под «пустым призраком» цивилизации, скрывающей беспросветную пошлость и вселенскую скуку; Чаадаев - под «плачевной золотой посредственностью» мещанства, уничтожающего духовные дары человека. Все еще не западают в сознание современного интеллектуала размышление К.Н. Леонтьева о «либерально-эгалитарном прогрессе», приводящем самобытные культуры ко всемирному примитивному однообразию, и о «среднем европейце» как «орудии всемирного разрушения», или В.В. Розанова о цене обращения с помощью науки «камней» природы в «хлебы» цивилизации - страшном, но мощном исходе понижения психического уровня человека. Удивительно, но в общем-то закономерно, что какая-то внутренняя цензура или атрофия соответствующего восприятия не позволяют сегодняшним реформаторам хоть как-то обсудить и идеи крупнейшего западного социолога русского происхождения П.А. Сорокина, который, подобно Тютчеву, также видел единственно спасительный выход из тупиков натурализма и антропоцентризма в теоцентрическом жизнепонимании. Если труды другого известного социолога, М. Вебера, раскрывающие «дух капитализма» и результаты «протестантской этики», периодически обсуждаются в печати, то книга Сорокина «Человек, цивилизация, общество» (М., 1992) осталась невостребованной. Автор акцентирует внимание на том, что противостояние демократии и тоталитаризма, свободы и деспотизма, капитализма и коммунизма, интернационализма и национализма не составляет центральной проблемы нашего времени. Текущие популярные темы, постоянно освещаемые государственными деятелями и политиками, профессорами и министрами, предпринимателями и журналистами, - всего лишь производные и побочные ответвления главного вопроса: преодоление основных принципов «чувственного общества», освобожденного от Бога и релятивизирующего в гедонизме и утилитаризме все высшие ценности и нравственные императивы («истинно все, что полезно; допустимо все, что выгодно»), в решительном повороте к идеациональной культуре, основанной на «принципе сверхчувственности и сверхразумности Бога как единственной реальности и ценности».