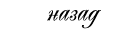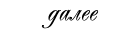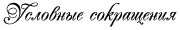А.К. ТОЛСТОЙ. «Смерть Иоанна Грозного» на веймарской сцене
«Смерть Иоанна Грозного» на веймарской сцене
Из письма к Б. М. Маркевичу
…Вы желали, чтоб я описал вам подробно, как сошло с рук представление на веймарской сцене моей трагедии «Смерть Иоанна Грозного», в превосходном переводе г-жи Павловой. Спешу исполнить ваше желание.
Я приехал в Веймар поздно вечером и на другой же день был приглашен на первую репетицию. С веймарскою труппой познакомился я в самом театре. Главного трагика, Лефельда, я знал уже с прошлого года, и как в тот же раз, так и теперь, был поражен его наружностью. Игры его я еще ни разу не видал, но если бы мне было предоставлено заказать фигуру Грозного по историческим преданиям и по собственным моим понятиям, я не мог бы вздумать ничего лучше. Рост его высок, осанка величественна, голос звучен, выразительные, резкие и подвижные черты страстно-зловещего типа кажутся созданными олицетворять гнев. Где бы я ни встретил этого человека, мне непременно пришло бы в голову: «Вот лицо, подходящее к Иоанну Грозному!» Характер этого артиста, как я узнал после, вполне соответствует его наружности. Ему на представлении не дают ничего острого в руки; платья шьют на него прочнее, чем на других. Он в моем присутствии подошел к директору театра, или, как его там называют, к гофинтенданту, барону Лону, и сказал ему с озабоченным видом: «Ради бога, господин барон, не велите в сцене с Гарабурдой давать мне металлического топора, или я не отвечаю ни за что!» Исторический посох Иоанна, с железным концом, был для него нарочно сделан тупой. Впоследствии я имел случай убедиться, что эти предосторожности не излишни. Но, несмотря на свою страстность, г. Лефельд человек совершенно благовоспитанный, образованный и в высшей степени добросовестный. Это качество он разделяет со всею веймарскою труппой, и я на первой же репетиции был поражен той совестливостью, тою любовью и тем глубоким уважением к искусству, которыми проникнут каждый из артистов. Какие бы ни были их личные отношения между собою, отношения эти забываются и исчезают пред общим делом. Искусство есть для веймарских артистов как бы священнодействие, к которому они готовятся, каждый но мере сил. К моему удивлению и удовольствию, я тотчас же убедился, что артисты были знакомы с моею брошюрой: «Проект постановки на сцену "Смерть Грозного"». Готовясь поставить трагедию и узнав, что есть такая брошюра, дирекция позаботилась добыть с нее перевод, и добыла отличный, который я видел в рукописи у гофинтенданта. О том, что все актеры, от первого до последнего, знали свои роли совершенно твердо, — нечего и говорить. Лефельд несколько раз просил суфлера не подсказывать ему, говоря, что он только мешает, и когда я выразил ему по этому поводу мое удивление, он отвечал мне: «Это моя первая обязанность; если б я не знал своей роли наизусть, я заслуживал бы, чтобы меня со стыдом согнали со сцены!» Лефельд один из первых трагиков Германии, а в роли короля Лира считается решительно первым. Это не мешало ему выслушивать все мои замечания не только со вниманием, но даже с признательностью. То же делали и прочие артисты. Каждый из них просил меня остановить его, если я найду, что он говорит или играет не так. Случаев испытать их готовность представлялось немного, и они более относились к произношению собственных имен и к ударениям, но и эта трудность была скоро побеждена, исключая имя: Мстиславский, которое до конца произносилось Mistislavski. Некоторого труда стоило мне отучить бояр от поклонов со сложенными крестообразно на груди руками. Они привыкли так кланяться в разных «Лжедмитриях», начиная от шиллеровского до написанного Геббелем. «Aber es ist ja orientalisch!» — говорили они мне. — «Darum eben muss nicht sein!»1 — отвечал я с невольною досадой на это постоянное смешивание нас с турками и татарами. Легче было мне заставить бояр становиться пред Иоанном на оба колена, вместо того чтобы преклонять одно, как они делали сначала. Пред начатием репетиции некоторые актеры подошли к барону Лону и вопросили его восстановить кое-какие места, вычеркнутые для сокращения драмы. Сокращения эти были сделаны того же утра бароном Лоном вместе со мною. Но когда я предложил ему сократить сцену схимника, он на это не согласился, говоря, что она, наверно, понравится публике. Ни из этой сцены, ни из чтения синодика не было выкинуто ни слова. Зато в Боярской думе мы вычеркнули почти все начало, и хорошо сделали. Она вышла несравненно живее. Я не мог также не одобрить, что после речи Сяцкого все бояре вскочили с своих мест, вышли на средину сцены и продолжали так играть до конца.
Лефельд перед репетицией объявил мне, что этот раз он будет не играть, а только говорить, и просил меня не иметь о нем еще никакого суждения; но мало-помалу он увлекся. Его сокрушение, его радость при добрых известиях из Пскова, его гнев на Курбского, его ирония с боярами, его хладнокровный приговор Сицкому и, сверх всего, его царственный вид и голос — все было великолепно. Без гримировки, без костюма, я увидел пред собой настоящего Иоанна Грозного, каким я его воображаю.
В этот день репетировали только три первые действия, от 4 до 7 1/2 часов. Годунов (г. L'Hamé) был также очень хорош и понял свою роль верно. В сцене, где Шуйский угощает своих гостей, я заметил за кулисами одного человечка в очках, с длинным носом, с отвислыми губами и с подвязанною рукой, который, казалось, смотрел с любопытством на угощение Шуйского. Довольно неприятная его наружность отвлекала мое внимание от актеров.
«Что это за фигура в очках? — думал я, — и зачем она тут стоит? Должно быть, какой-нибудь отставной учитель математики!» К немалому моему удивлению, Шуйский обратился к нему со словами:
Войди, Данилыч!
«Ну, хорошего же прибрали вы Битяговского!» — подумал я, но с первых же слов человека изменил свое о нем мнение. Трудно определить, в чем именно заключается верность дикции, но каждое слово Битяговского в очках было сказано так верно, что тотчас же исчезли и очки, и длинный нос, и отвислые губы. Это был тот бессовестный кутила, которого я старался описать в моей брошюре. Все движения его были художественны, естественны и картинны. За ножом он полез в свой сапог таким молодцом, что страшно стало за Годунова. Когда кончилась сцена, я пошел за кулисы и, еще не зная его имени, крепко пожал ему здоровую, неподвязанную руку. Он извинился за больную, сказав, что недавно сломал ее, но что на представлении он ее скроет. «Нет, пожалуйста, оставайтесь, как вы есть, — отвечал я, — это вам к лицу и совершенно к вашей роли; вы подрались в кабаке, и ваша рука пострадала!» Я узнал, что этот человек весьма известный и даровитый актер Кнопп, которого я видел прошлого года на веймарской сцене в роли венгерского цыгана, где он играл на скрыпке чардаш, пел, как цыган, и выговаривал, как венгерец, но без всякого преувеличения. Меня тогда же поразила необыкновенная правда и верность его игры. Я рад был с ним познакомиться.
Гарабурда оказался слаб. Он не был ни тем молодцеватым, вызывающим паном, каким представляет его Бурдин, ни тем сосредоточенным, невозмутимым малороссиянином, каким я описываю его в моей брошюре. Роль Гарабурды более вертится на его национальности, а немцы не понимают славянских оттенков. Я пожалел, что Гарабурда достался не Кноппу. Тот бы, наверно, понял.
И ныне же молебны
Победные служить по всем церквам! —
прохрипел, задыхаясь, Иоанн и упал в изнеможении на свой престол, совершенно как стоит у меня в тексте. Этим кончилась первая репетиция. Когда я подошел к Лефельду, руки его были холодны и пот катился с его лица.
— Это вы называете не играть, а говорить? — сказал я.
— Пожалуйста, не судите обо мне, — отвечал Лефельд, — я берегу мои средства!
«Ну!» — подумал я.
В этот же день я познакомился с заслуженным семидесятилетним актером Франке, которому выпала на долю роль Мстиславского. Он хорошо знал Гёте, помнил много анекдотов того времени, и я обещал себе немалое удовольствие от его рассказов, но, к моему и к общему сожалению, с ним случился на другой же день удар, и роль была передана другому.
На следующее утро репетировали два последние действия. Великий герцог приехал на репетицию. Я познакомился с царицей, царевной и Марией Годуновой. Все три молоды, красивы и представительны, особенно царица (m-lle Charles), родом стирийка и, вероятно, с примесью славянской крови: так она похожа на русскую.
Народную сцену репетировали раз шесть сряду; она все шла не довольно живо, по мнению режиссера, г. Подольского. Персонал веймарской труппы невелик, и в толпу народа надо было примешать много женщин. Здесь мне пришлось отстаивать характер и достоинство русской женщины. Режиссер непременно хотел, чтобы крики: «Порешим Годунова! Вздернем Битяговского! Разнесем на клочья Кикина!» — пали на долю женщин. Он даже показывал им, как они должны потирать руки от удовольствия, и приводил им в пример dames de la halle2 во время французского террора. Я насилу убедил его, что это не в русских нравах, и скромные статистки благодарили меня за избавление их от не свойственной им кровожадности.
Народная сцена под конец пошла отлично. Битяговский играл мастерски, но Кикин был решительно плох. В пятом действии явились скоморохи. То были почтенные отцы семейства, с седыми бакенбардами, кривляющиеся основательно и добросовестно. Лефельд заставил их вбегать несколько раз сряду, прежде чем определилась мера их кривляний и то место, где они должны были остановиться, чтобы дать себя увидеть умирающему Иоанну, а его не загородить от зрителей, ибо Лефельд много, и совершенно справедливо, рассчитывал на свою мимику в этой сцене. Он, уже лежа на полу, привстал при виде скоморохов, отполз от них в ужасе и окончательно упал навзничь. Он исполнил слово в слово совет мой в брошюре о постановке, и немая игра его вышла потрясательна для самих актеров.
Теперь вся трагедия была предо мною, и я не мог не порадоваться тому старанию, уважению и даже любви, с которыми все актеры к ней относились. Никто из них не сомневался в успехе, и на мои сомнения Лефельд отвечал теперь, как и прошлого года, со свойственною ему страстностью: «Если эта пиеса не будет иметь величайшего успеха, — назовите меня подлецом! Nennen Sie mich einen Schuft. Буду виноват я, а не вы!»
Вообще участие в трагедии и ее постановке было общее. О ней говорил весь Веймар, и это счастливое обстоятельство я приписываю прежде всего моему доброму приятелю Листу (ныне аббату Листу), который три года тому назад прочел в Риме первый акт, в переводе г-жи Павловой, напечатанном в «Russische Revue»3 покойного Вольфзона, и остался им так доволен, что рекомендовал его великому герцогу Веймарскому. Великий герцог чрез Листа предложил мне поставить трагедию на его театр, и я принял предложение с благодарностью. С тех пор великий герцог не переставал интересоваться трагедией. В прошлом году я доставил ему рисунки нашего академика Шварца. Он поручил мне написать к г. Шварцу, находившемуся в Париже, и пригласить его на возвратном пути заехать в Веймар. Г. Шварц остался вполне доволен сделанным ему приемом. Он успел осмотреть готовые костюмы, дать кое-какие советы о постановке и составить некоторые новые рисунки. При этом он имел случай, как и я, оценить горячую любовь великого герцога к искусству, его уважение к истории и к археологии и радушную добросовестность его дирекции.
Было еще две репетиции всей трагедии два дня сряду; последняя была утром в день представления. Великий герцог приезжал каждый раз на некоторое время в свою ложу. В эти четыре дня актеры успели отлично сыграться, и пиеса обещала идти хорошо. Все были в этом уверены, только Лефельд, простудившийся накануне, боялся за свой голос. В этот день я в первый раз увидел декорации. Они были неудовлетворительны для русского археологического глаза и большею частью подобраны из других пиес. Залы в византийском вкусе, взятые из «Велизария» и «Тангейзера», более всего подходили к русскому характеру. Я пошел посмотреть костюмы и главными остался очень доволен. Царское облачение и Мономахова шапка были превосходны, шубы и кафтаны бояр совершенно приличны. Женские костюмы я увидел только вечером, на представлении. Тут чуть было не случилась беда. Осматривая костюмы, я заметил на одной полке штук десять каких-то тюрбанов, вроде тех пирогов, которые подают к чаю, но отороченных мехом. Рустан, мамелюк Наполеона I, также носил на голове такой пирог. Зловещее предчувствие мною овладело.
— Скажите, — спросил я костюмьера, — ведь это не для моей трагедии приготовлено?
— Для вашей! — отвечал он, приятно улыбаясь.
— Помилуйте, да это не по рисункам Шварца.
— Нет, — ответил костюмьер, — das ist aus dem Demetrius4.
Мы это наденем на тех статистов, которые появятся при приеме посла.
— Но таких пирогов русские никогда не носили!
— Aber es ist orientalisch!5 — отвечал костюмьер.
Опять orientalisch! и я в отчаянии побежал отыскивать гофинтенданта.
— Ради бога, велите это прибрать в кладовую и запереть на ключ, наденьте на статистов, что вам угодно, только не это!
Барон Лон обещал мне исполнить мою просьбу, и тюрбаны были прибраны.
Когда настало время представления, я отправился в маленькую боковую ложу великого герцога, предоставленную на этот раз мне одному. Она была с решеткой, которую я мог отворять, и с дверью, ведущею на сцену. Ложа гофинтенданта была напротив меня. Сам великий герцог с семейством находился в большой средней ложе. Театр был полон, все билеты давно разобраны, и многим желающим недостало мест. Не знаю почему, я не ощущал никакого волнения, и мне казалось, что я готовлюсь смотреть не на свою, но на чужую драму. На репетициях, напротив, особенно в первый раз, когда я взошел на сцену и почувствовал под собою те самые доски, по которым лет за шестьдесят ходили Гёте я Шиллер, дыханье мое сперлось, и слезы навернулись на глаза.
Условный знак был подан, и началась увертюра «Кориолана».
После ее мастерского исполнения послышались споры бояр, занавесь поднялась, я увидел волнующуюся Думу и тотчас же услышал монолог Захарьина о цели собрания, который в несокращенной сцене говорится позже. Захарьина играл Herr von Milde, доктор философии, трагик и вместе первый баритон веймарской оперы. Он играл хорошо и с достоинством, но далеко не так симпатично и художественно, как наш почтенный Леонидов. Годунов (г. L'Hamé) был очень хорош. Сицкий также.
Вообще, благодаря движению, введенному режиссером, в более скорому темпу веймарской труппы, сцена Боярской думы сошла с рук живо и вовсе не скучно. Когда она кончилась, единодушные рукоплескания наградили актеров.
Перемена декораций совершилась очень быстро. Я не видал Лефельда с последней репетиции и увидел его в первый раз в костюме. Он сидел на своем кресле с опущенным взором, с опущенною рукой, державшею четки, у стола, на котором лежали бармы и шапка Мономаха. (Все совершенно согласно с текстом трагедии.) Лицо его вовсе не было гримировано, да и не оказывалось в том надобности. Чтобы сделать из него Иоанна Грозного, до га-точно было редкой русой бороды и редких волос. Это, в самом деле, был Иоанн Грозный — и никто другой! Он говорил сдержанно, умеренно, глухим голосом, до самого письма Курбского, которое, в роли Нагого, отлично прочел молодой, красивый и даровитый серб Савич, единственный из актеров, умевший произносить имя Мстиславского. Когда кончилось чтение, Лефельд вскочил, вырвал письмо у Нагого и громким голосом потряс весь театр. Это, но моему мнению, была ошибка. Он слишком скоро превратился в богатыря. Но зато какой богатырь!
Я не видал Мочалова, но Лефельда могу сравнить только с Каратыгиным и не знаю, кому дать преимущество. Когда надели на него полное облачение, царственная фигура его явилась во всем его величии. Слова: «Теперь идем в собор перед всевышним преклонить колена!» — он произнес с необыкновенным достоинством, и в театре послышался взрыв уже прежде начинавшихся, но доселе сдержанных рукоплесканий, которые продолжались и после опущения занавеси. Ко мне вбежал режиссер, уверяя, что это меня вызывают, но я не имел причины ему поверить и велел просить Лефельда, чтоб он вышел на сцену. Лефельд вышел неохотно, и когда я в антракте отыскал его в уборной, он казался в отчаянии, чуть не сорвал с себя парика, метался во все стороны и повторял: «Я играю отвратительно!. Я играю отвратительно!»
— Что с вами? — спросил я, — вы играли прекрасно!
— Нет, нет, я простудился, у меня катар, у меня нет голоса!
— Помилуйте, у вас такой голос, какой дай бог всякому!
— Aber ich kann nicht mit der Stimme malen! (Я не могу живописать своим голосом!) — отвечал он и, бросившись в кресла, закрыл лицо руками. Мне показалось, что он плакал. Меня позвали в мою ложу, куда пришел великий герцог поздравить меня с успехом. Я рассказал ему о состоянии Лефельда, и он, с свойственною ему добротой, пошел сам на сцену ободрить унывающего артиста. Это удалось ему не вполне; Лефельд был неутешен.
После второго акта возобновились рукоплескания, режиссер опять вбежал ко мне, уверяя, что публика меня вызывает, но я, не слыша слова «автора!», опять выслал на сцену Лефельда и Ламе (Годунов), сказавшего свой монолог замечательно хорошо.
В третьем акте я, к сожалению, нашел, что Лефельд на репетициях играл лучше. Он был теперь слишком энергичен, тратил слишком много силы, но это заметил только я, а не публика. Очень приятно поразила меня своею картинностью m-lle Charles в костюме царицы. Она была великолепна: костюм богат и верен, наружность свежей и красивой ярославской девушки; игра очень хороша.
В Гарабурду Лефельд не пустил топором, но только замахнулся и откинул топор в сторону. Это было благоразумно: в его встревоженном состоянии он и деревянным топором раскроил бы Гарабурде голову.
Опять начались рукоплескания, опять вошел режиссер, а с ним и сам гофинтендант, уверяя меня, что я не хочу показаться публике.
— Но они не зовут автора!
— У нас никогда автора не зовут, но если в новой пиесе хлопают продолжительно, это значит, что хотят видеть автора.
Я еще колебался, как вошел в ложу один знакомый и сказал мне, что публика на меня негодует.
— Wir klatschen uns die Hànde wund, und er will nicht er-scheinen! (У нас от хлопанья болят руки, а он не показывается!)
Сомнения не оставалось, я должен был показаться. Меня вызвали два раза.
В четвертом акте случился сюрприз.
Пред поднятием занавеси я пошел на сцену и осмотрел Кикина. Он был одет как следует, только усы закрутил себе ужасно молодецки, что придавало ему вид италиянского браво, тем более, что он был огромного роста, выше всех головой. «Так нехорошо, — сказал я, — позвольте вам опустить усы!» — и, опустив ему усы, я возвратился в ложу. Народная сцена пошла отлично, но вот явился Кикин, и, к ужасу моему, я увидел, что он успел всунуть свои длинные ноги до половины икор в какие-то соломенные корзины, которые, должно быть, приберег для большего эффекта до последней минуты. Корзины эти, как я узнал после, особенно понравились публике. Она увидела в них этнографическую точность, couleur locale6; но я на другой же день написал к гофинтенданту, прося его запереть их в кладовую на ключ вместе с тюрбанами. Кикин был неимоверно плох, и когда пришлось ему убегать от толпы, ноги его оказались так длинны, что они с своими корзинами могли сделать только два шага чрез всю сцену. Зато Битяговский был прекрасен, и вообще вся сцена сыграна мастерски.
Во второй половине этого действия Лефельд опять выказал слишком много энергии. Он раза два без нужды бросался на пол и тем ослабил впечатление того места, где он становится пред боярами на колени. Но стал он на колени отлично, а пред этим, когда вскочил с кресла со словами:
Что там скребет в подполье? —
он в лице и голосе выразил такой ужас, что у меня, от художественного чувства, волосы зашевелились на голове, и многие из зрителей привстали с своих мест. Это, кажется, была его лучшая минута.
Но вот настала сцена со схимником. Изнеможенный Иоанн говорил вяло, схимник отвечал ему вяло. Завязалось между ними нечто вроде дуэта на одни и те же ноты, как будто они бились об заклад, кто кому прежде надоест. Это. было так нестерпимо, что мною овладела зевота и почувствовалась тоска в ногах. Кто тут был виноват? Я или они? Кажется, они. Иоанн и схимник не могут и не должны говорить в одном тоне, да еще в певучем. Тут, более чем где-либо, необходим контраст. По мне, этой сцене следовало провалиться, но она понравилась публике. Окончание акта:
Боже всемогущий!
Ты своего помазанника видишь,
и пр. —
было сказано прекрасно и покрыто рукоплесканиями.
В сцене с волхвами актер L'Hamé даже удивил публику. Он считался доселе приличным jeune premier7, но в этой сцене выказал себя настоящим трагиком и вырос в общем мнении. Он сказал мне потом, что очень полюбил свою роль и по мере игры все более в нее вживался.
Окончание пятого акта: игра в шахматы, появление Годунова, его взгляд на Иоанна, гнев и смерть Иоанна, а в особенности его трагическое движение при появлении скоморохов — произвели глубокое впечатление на публику. Мне сказали, что зрители, бывшие на задних местах, все встали, когда вышел Годунов, и не садились до самого конца.
Вообще всю вторую половину пятого акта в театре царствовало глубокое молчание, и только по опущении занавеси начались громкие и продолжительные рукоплескания, и я был вызван два раза сряду.
Я пошел на сцену и благодарил всех актеров. Успех трагедии был несомнителен. Он превзошел их собственные ожидания. Все были довольны, все меня поздравляли; один Лефельд ходил, повеся голову.
— Не судите обо мне, — говорил он, — ради бога, не судите обо мне, я играл прескверно, но в следующий раз вы меня не узнаете! Изо всего моего репертуара роль Иоанна моя любимейшая. Она как будто скроена для меня (sie ist fur mich geschnitten), но моя простуда, мой катар совершенно меня расстроили.
Я не счел нужным сообщать ему теперь мои замечания о сделанных им ошибках, а напротив, высказал ему мое чистосердечное восхищение общим характером его игры. По моему мнению, Лефельд актер, обладающий средствами необыкновенными, но из двух условий великого артиста: способности вживаться в роль и способности управлять собою, он усвоил себе только первую. Он так вживается в роль, что перестает сомневаться в своей тождественности с представляемым лицом; но его необузданность есть враг его таланта.
Как бы то ни было, немецкая публика приняла русскую трагедию с давно не виданною благоволительностию. «Wir miïssten weit zuruckgreifen, — говорили мне актеры, — ura uns eines solchen Erfolgs zu erinnern»8. Я спросил их, не из уважения ли к одобрению великого герцога это случилось? Но мне отвечали, что веймарская публика очень самостоятельна и даже любит противоречить.
Второго представления я не видал. Оно было назначено через неделю, преимущественно для иногородних, то есть для жителей Иены, Эрфурта и Мейнингена, в каком случае обыкновенно учреждается экстренный вечерний поезд.
Теперь вот мой общий вывод: успехом своим и самым появлением в Веймаре трагедия прежде всего обязана мастерскому, высокохудожественному переводу г-жи Павловой. Я не считал возможным передать так верно и так поэтично, стих в стих, весь характер русского оригинала, со всеми его особенностями и архаизмами. Подобного перевода я не знаю ни на каком языке. Потом живому участию великого герцога, и наконец, необыкновенной добросовестности самих артистов, сохранивших на своей сцене еще гетевские предания. Что ка<… гея до материальных средств веймарского театра, они уступают не только нашим но и других главных городов Германии. Один актер должен часто играть две и три роли в той же пиесе. Так, у меня Сицкого и схимника играл один и тот же. Роли Григория Нагого и гонца были слиты в одну роль. Из двух волхвов один взял на себя роли обоих а другой молчал. Из двух врачей явился только один. Все стольники и слуги были заменены, к моему прискорбию, мальчиками, коих представляли женщины, названные на афише (увы!) пажами. Из сорока четырех лиц «Смерти Иоанна» явилось только тридцать три. Бирючей в народной сцене не было вовсе, а вместо Григория Годунова верхом явился пеший пристав. Костюмы главных ролей то есть Иоанна, царицы, Феодора, Годунова. Ирины и Марии Годуновой, были прекрасны и богаты, прочие только приличны. Народ одет очень странно и совсем не по-русски. Декорации очень не удовлетворительны и небогаты. Но веймарская публика в этом отношении нетребовательна. Она, не избалованная внешнею постановкой, обращает внимание только на игру.
Из моего пребывания в Веймаре я вынес чувство уважения к труппе, благодарности к радушию великого герцога и признательности ко вниманию публики.
Лефельд сказал мне, что, если б его пригласили играть Иоанна в Петербурге на немецком театре, он вменил бы себе это в честь и в удовольствие.
1868
1 «Но ведь это восточное!» — «Потому-то этого и не следует делать!» (нем.).
2 Рыночных торговок (франц.).
3 «Русском обозрении» (нем.).
4 Это из «Димитрия» (нем.).
5 Но это восточное! (нем.).
6 Местный колорит (франц.).
7 Первым любовником (франц.).
8 Мы должны были бы обратиться к далекому прошлому, чтобы вспомнить о подобном успехе (нем.).