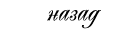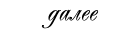Вл. Муравьев. «Алексей Константинович Толстой»
«Двух станов не боец...»
Когда А. К. Толстой хлопотал об отставке, лишь для одного рода государственной службы он делал исключение. «Если бы, например, меня употребили на дело освобождения крестьян,— писал он в 1856 году,— я бы шел своей дорогой, с чистою и ясною совестью, даже если бы пришлось идти против всех». На это дело его не «употребляли».
К 1860-м годам российское самодержавие вынуждено было под напором растущего революционного движения в стране предпринять шаги к отмене крепостного права.
А. К. Толстой с нетерпением ожидал правительственного манифеста, он был искренним сторонником освобождения крестьян. В одном письме из украинского имения в 1858 году он с негодованием описывает некую помещицу-крепостницу, которая тщетно пыталась найти в нем единомышленника: «Есть здесь отвратительная соседка, которая, кажется, ездить больше к нам не будет, ибо не встретила в нас сочувствия своему образу мыслей, который состоит в том, что она со слезами на глазах соболезнует о том, что разрушается союз любви и смирения и страха между помещиками и мужиками через уничтожение крепостного состояния».
Едва был опубликован манифест об освобождении крестьян, Толстой, который в это время находился в Петербурге, поспешил в свое имение Красный Рог, чтобы самому сообщить крестьянам радостную весть.
Только в 1861 году Толстой получил желанную отставку. Сначала он поселился в своем имении под Петербургом, а через несколько лет большую часть времени стал проводить в родных местах — в Красном Роге, в Погорельцах, где прошли его счастливые детские годы.
В воспоминаниях некоторых современников Толстой предстает этаким благодушным помещиком, засевшим в своем дальнем имении, воспевающим мирную старину и красоты природы и не желающим замечать кипящих вокруг общественных и политических страстей. Но это было не так.
В общественной жизни, в литературе шла ожесточенная борьба прогрессивных сил со сторонниками крепостничества. Основной силой, противостоящей крепостникам, были революционные демократы.
Революционные демократы, за которыми быстро закрепилось прозвище «нигилисты», во многом были чужды Толстому. Многое в них он воспринимал как прямо враждебное своему мировоззрению и своим взглядам на искусство. Так, например, о Некрасове он писал: «Наши пути разные...» Однако он отдавал должное положительным чертам «нигилистов»: их антикрепостнической «гражданской» деятельности, их личной твердости и последовательности в проведении своих идей в жизнь. «Если бы я встретился с Базаровым (героем романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». — В. М.), — пишет А. К. Толстой, — я уверен, что мы стали бы друзьями, несмотря на то, что мы продолжали бы спорить».
А. К. Толстой чутко воспринимал все новое, но нежелание лишиться личной независимости и самостоятельности мнения, за которые он вел борьбу всю жизнь, заставляло его держаться «вне партий». «Двух станов не боец»,— называл себя Толстой. Такое положение, как он считал, давало ему право беспристрастно относиться к обоим «станам», поддерживать их положительные, на его взгляд, действия и бороться против того, что казалось ему отрицательным.
В 1870-е годы Толстой создал все основные свои сатирические стихотворения. Очень большое место в них занимала сатира на «нигилистов» и «нигилизм».
Но «нигилист», каким его рисует Толстой, не имеет ничего общего со светлым образом революционера-демократа 1860—1870-х годов, самоотверженного труженика, беззаветно преданного делу освобождения народа от гнета крепостничества и самодержавия, умного, честного человека, который умеег понимать и восхищаться красотой, искусством, литературой, любит жизнь и способен жертвовать всем ради пользы «дела». Таким был Н. Г. Чернышевский, такими были герои его романа «Что делать?», таким был Базаров, такими были врачи, учителя, студенты и многие другие честные русские люди — «шестидесятники», как назвала их история и которых мы вспоминаем с глубоким уважением.
Тот «нигилизм», который Толстой называет «чумой» и изображает в сатирических красках, это всего лишь уродливая накипь в революционном движении. «Сатира есть не что иное, как зеркало, представляющее дурные или смешные стороны общества или части общества в данную минуту», — писал Толстой. Все, что подметила его сатира, было действительно присуще некоторой «части общества». Революционно-демократическое движение вовлекало в свои ряды все более и более значительное число людей, и вполне естественно, что еще более широким оказался круг людей, примкнувших к движению лишь потому, что быть либералом или нигилистом стало чем-то вроде моды. Конечно, такие «нигилисты» очень примитивно, поверхностно и искаженно понимали цели и методы революционной борьбы. Они щеголяли громкой революционной фразой, за которой ничего, кроме пустых слов, не скрывалось, опошляли взгляды революционеров на государст во, семью, искусство. Именно эта широкая мутная волна невежества и наглости, самоуверенно именующая себя прогрессом, была наиболее доступна наблюдению Толстого, очень далекому от настоящих революционных кругов.
Личные связи, общественное положение, традиционные убеждения,— все это толкало А. К. Толстого в лагерь реакции. Но от лагеря реакции он был еще дальше, чем от революционно-демократического. В письме, написанном незадолго до смерти, Толстой отмечал: «...В то время как журналы клеймят меня именем ретрограда, власти считают меня революционером». Все, что он написал, совершенно не укладывалось в те официальные рамки, которые предписывало самодержавное правительство литературе. Толстой считал первым долгом литератора говорить и писать правду. А правды-то как раз самодержавие и не могло допустить.
«Все люди разделяются на две категории, на преданных и непреданных,— шутил Толстой по поводу отношения к нему правительства,— остальные различия суть только мнимые; все литераторы, и даже знающиеся с ними, принадлежат к непреданным, стало быть, к вредным... Преданный человек равняется губке, не испускающей из себя ничего без нажатия. Жать может одно начальство... Преданный человек равняется пробке: он охотно затыкает всякое отверстие».
«...Убить человека дурно, но убить мысль, ум — хуже». Эти слова, высказанные Толстым еще в 1856 году, были протестом против преследования николаевскими жандармами прогрессивной русской литературы и науки.
Толстой неоднократно выступал в защиту преследуемых писателей, не боясь навлечь на себя неудовольствие даже самого царя. В годы разгула николаевской реакции он поддерживает отношения с ссыльным Тарасом Шевченко и хлопочет за него. И. С. Тургенев оказывается арестованным за опубликование статьи на смерть Н. В. Гоголя и за свои антикрепостнические «Записки охотника», и Толстой посещает его в полицейской части, добивается смягчения участи.
Позднее он выступает в защиту осужденного Н. Г. Чернышевского. Зимой 1864 года на вопрос царя: «Что делается в русской литературе?» Толстой ответил: «Ваше величество, русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского». Надо было иметь большое гражданское мужество, чтобы в обстановке наступающей реакции так прямо осудить действия правительства и царя.
«Знатоки» и «ценители» литературы в голубых жандармских мундирах пристально следили за творчеством Толстого, и только его высокое общественное положение и близость к царю спасали его рукописи от запрещающего красного цензорского карандаша. Да и то не всегда. Жандармы вполне справедливо относили Толстого к «непреданным».
Сатирические произведения Толстого, входившие в сочинения Козьмы Пруткова, напечатанные или распространявшиеся в списках под его собственным именем, пользовались широкой известностью и касались главных проблем, встававших перед обществом.
Русское самодержавие, по официальной версии являвшееся благодетелем народа и основой существования государства, Толстой заклеймил (именно заклеймил, точнее слова тут и не подберешь) в сатирической «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева».
Его остроумные блестящие характеристики царей и цариц разоблачали антинародную, антигосударственную сущность их деятельности как правителей и тем самым разоблачали самодержавие вообще.
В другом своем крупном сатирическом произведении — поэме «Сон Попова» Толстой показывает «столпы», на которых зиждется государство: либеральствующего бюрократа-министра, называющего себя «слугой народа», провокатора-полковника из Третьего отделения, обывателя, предающего из страха друзей и знакомых. «Сон Попова», конечно, не мог быть напечатан и распространялся по России в многочисленных рукописных копиях.
Немало ядовитых строк можно найти у Толстого о церкви. Невежество, корыстолюбие русских церковников, их лакейство перед власть имущими вызывают у него презрение и отвращение.
Толстой чувствовал себя, особенно в последние годы, очень одиноким в общественно-политическом отношении, но и это не заставило его сблизиться с какой-либо партией.
Еще в самом начале своего литературного пути, в середине пятидесятых годов, в одном из писем к Софье Андреевне, он писал: «Мой друг, нам, может быть, много лет жить на этой земле — будем стараться быть лучше и достойнее».
А. К. Толстой неоднократно говорил и писал о своей любви к «рыцарскому периоду» истории и «рыцарству». Но его восприятие рыцарских времен очень напоминает восприятие рыцарских романов благородным идальго из Ламанчи.
И в нем самом были черты, которые невольно вызывают в памяти честного и прямого, мудрого и наивного, бесконечно привлекательного Дон-Кихота.
Последние годы жизни А. К. Толстой тяжело болел. Умер он 28 сентября 1875 года.
За год до смерти в большом письме к итальянскому историку литературы и критику Губернатису он как бы подводит итоги своей жизни и своего литературного пути.
Идейное направление своих произведений он характеризует как «ненависть к деспотизму, в какой бы форме он ни проявлялся».
С большим удовлетворением А. К. Толстой отмечает, что его сочинения читаются публикой, что «Князя Серебряного» «очень любят в России, особенно представители «низших классов», и что он сам, несмотря на неблагоприятную критику, является «любимцем народа». Алексей Константинович Толстой с полным правом мог так сказать о себе.
А. К. Толстой дорог и созвучен нам своей тонкой лиричностью, проникновением в область самых прекрасных и чистых человеческих чувств, он дорог и созвучен нам проповедью уважения к человеку и человеческой мысли, своей ненавистью к деспотизму — своим проникнутым идеями подлинного гуманизма творчеством.