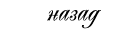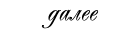Д.А. Жуков «Алексей Константинович Толстой»
Глава пятая
«СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА, СЛУЧАЙНО...»
В начале 1851 года Алексею Толстому было уже тридцать три года. Он считал, что прожил их плохо, но никто не знал его тягостных мыслей. Ум и воспитание наделили его манерой держаться просто, но в этой аристократической простоте была своя сложность, которая исключала какую бы то ни было откровенность. В остроумие он прятался как в скорлупу - оно было видимой частью его исканий. Толстой знал про себя, что он художник, но ощущение собственной талантливости только усугубляло раскаяние - вместо творчества ему подсунули суету, а он не был настолько сильным, чтобы отринуть ненужное и взяться за главное...
Впрочем, как и все истинные художники, он преувеличивал собственную суетность. Бездельники не замечают потерянного времени. У работников всякий день, не отданный делу, кажется едва ли не катастрофой. Они терзаются, упрекают себя в лени именно в такие дни, забывая о месяцах, промелькнувших оттого, что думать о постороннем недосуг. Да и праздность художника кажущаяся - это время созревания плодотворной мысли.
Толстой был работником.
Анна Алексеевна Толстая по-прежнему ревниво опекала сына. Она с ужасом думала о его женитьбе, само слово «жена» было вызовом эгоистической самоотверженности Анны Алексеевны и предвещало, как чудилось ей, катастрофические перемены в сыновней привязанности и любви. Она придумывала болезни, которые требовали длительного лечения за границей и непременного присутствия и заботы сына. Она прибегала к помощи своих всесильных братьев, вызывавших Алексея к себе ради неотложных семейных дел или посылавших его в командировки государственной важности. А там... он развеивался, и его забывали. Так было с промелькнувшей в воспоминаниях графиней Клари и другими увлечениями Толстого.
Зимой, в январе, в тот, быть может, самый вечер, когда в Александринке шла «Фантазия», Алексей Толстой по долгу придворной службы сопровождал наследника престола на бал-маскарад, который давался в Большом театре. Будущий император Александр II любил подобные развлечения, он тяготился своей умной и тихой женой и открыто волочился за женщинами, не пренебрегая и случайными знакомствами в публичных местах.
На балу Алексей Толстой встретил незнакомку, у которой было сочное контральто, интригующая манера разговаривать, пышные волосы и прекрасная фигура. Она отказалась снять маску, но взяла его визитную карточку, обещав дать знать о себе.
Возвратись домой, Алексей Константинович по укоренившейся у него привычке работать ночью пытался сесть за стол и продолжать давно уже начатый роман или править стихи, но никак не мог сосредоточиться, все ходил из угла в угол по кабинету и думал о незнакомке. Устав ходить, он ложился на диван и продолжал грезить. Нет, далеко не юношеское трепетное чувство влекло его к маске... Ему, избалованному женской лаской, показалось, что с первых же слов они с этой женщиной могут говорить свободно, она поймет все, что бы он ни сказал, и ей это будет интересно не потому, что он, Алексей Толстой, старается говорить интересно, а потому, что она умница и всей манерой своей печально смотреть, улыбаться, говорить, слушать делает его не раскованным по-светски, а вдохновенным по-человечески. Это вместе с чувственностью, которую она не могла не пробудить, волновало его глубоко, обещая не просто удовольствие...
Может быть, той же ночью он нашел для описания своего зарождающегося чувства слова стихотворения, которое отныне будет всегда вдохновлять композиторов и влюбленных.
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты;
Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид,
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.
В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь;
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь,
И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя, я не знаю -
Но кажется мне, что люблю!
- На этот раз вы от меня не ускользнете! - сказал Алексей Толстой через несколько дней, входя в гостиную Софьи Андреевны Миллер. Она решила продолжить бальное знакомство и прислала ему приглашение.
Теперь он мог увидеть ее лицо. Софья Андреевна не была хорошенькой и с первого взгляда могла привлечь внимание разве что в маске. Высокая, стройная, с тонкой талией, с густыми пепельными волосами, белозубая, она была очень женственна, но лицо ее портили высокий лоб, широкие скулы, нечеткие очертания носа, волевой подбородок. Однако, приглядевшись, мужчины любовались полными свежими губами и узкими серыми глазами, светившимися умом.
Иван Сергеевич Тургенев рассказывал о ней в семье Льва Толстого и уверял, что был будто с Алексеем Константиновичем на маскараде и что они вместе познакомились с «грациозной и интересной маской, которая с ними умно разговаривала. Они настаивали на том, чтобы она сняла маску, но она открылась им лишь через несколько дней, пригласив их к себе».
- Что же я тогда увидел? - говорил Тургенев. - Лицо чухонского солдата в юбке.
«Я встречал впоследствии графиню Софью Андреевну, вдову А.К. Толстого, - добавляет слышавший этот рассказ С.Л. Толстой, - она вовсе не была безобразна, и, кроме того, она была, несомненно, умной женщиной».
Рассказ о том, что Тургенев был вместе с Толстым на памятном бале-маскараде, вызывает сомнение. Скорее всего Тургенева с Софьей Андреевной немного позже познакомил сам Алексей Толстой, и этому сопутствовало какое-то весьма неловкое обстоятельство, которое оставило у Ивана Сергеевича неприятный осадок, заставлявший его за глаза злословить, а в письмах к Софье Андреевне оправдываться...
Мнения современников о Софье Андреевне были самыми противоречивыми. Начать с того, что тот же Тургенев всегда посылал ей одной из первых свои новые произведения и с нетерпением ждал ее суда. Шаржированное описание ее внешности много лет спустя могло быть следствием уязвленного самолюбия. Он, как и Алексей Толстой, был под обаянием этой женщины, но отношения их остаются непроясненными.
- На этот раз вы от меня не ускользнете! - повторял Алексей Толстой, вновь услышавший ее необыкновенный вибрирующий голос, о котором говорили, что он запоминается навсегда. И еще говорили о ней как о милой, очень развитой, очень начитанной женщине, отличавшейся некоторым самомнением, которое, однако, имело столько оправданий, что охотно прощалось ей.
Она любила серьезную музыку. «Пела Софья Андреевна действительно как ангел, - вспоминала одна из ее современниц, - и я понимаю, что, прослушав ее несколько вечеров сряду, можно было без ума влюбиться в нее и не только графскую, а царскую корону надеть на бойкую головку».
Нет, женщина, прекрасно разбиравшаяся в литературе, способная взять в руки томик Гоголя и с листа безупречно переводить труднейшие места на французский, знавшая, по одним сведениям, четырнадцать, а по другим - шестнадцать языков, включая санскрит, не могла не произвести глубокого впечатления на графа, знания которого были необыкновенно широки и глубоки.
О чем они говорили в эту свою встречу, остается только догадываться, но теперь не проходило и дня, чтобы они не встречались, не писали друг другу писем, касаясь главным образом литературы, искусства, философии, мистики.
Софья Андреевна, урожденная Бахметева, была женой конногвардейца, ротмистра Льва Федоровича Миллера. Этого обладателя роскошных пшеничных усов и заурядной внешности Толстой встречал в музыкальных салонах. Теперь он знал, что Софья Андреевна не живет с мужем, но остерегался спрашивать, что привело их к разрыву. Он принимал эту женщину с веселой речью и грустными глазами такой, какая она была, дорожил каждой минутой близости с ней, а сблизились они очень быстро, потому что того хотела Софья Андреевна. Он был из тех сильных, но неуверенных в себе мужчин, которых умные женщины выбирают сами, оставляя их в неведении об этом выборе, не давая неуверенности и сомнениям одержать верх над первым порывом.
Очень скоро она нанесла ему ответный визит, и уже 15 января Толстой посылает Софье Андреевне стихи:
Пусто в покое моем. Один я сижу у камина,
Свечи давно погасил, но не могу я заснуть,
Бледные тени дрожат на стене, на ковре, на картинах,
Книги лежат на полу, письма я вижу кругом.
Книги и письма! Давно ль вас касалася ручка младая?
Серые очи давно ль вас пробегали, шутя?..
Но к поэтическому признанию в любви он добавляет: «Это только затем, чтобы напомнить Вам греческий стиль, к которому Вы питаете привязанность. Впрочем, то, что я Вам говорю в стихах, я мог бы повторить Вам и в прозе, так как это чистая правда».
Он читал ей у себя «Ямбы» и отрывки из поэмы «Гермес» Анри Шенье, идиллии и элегии, проникнутые духом классики, и теперь посылал Софье Андреевне томик его стихов, редчайшее издание, составленное поэтом Латушем в 1819 году и дорогое тем, что досталось по наследству от Алексея Перовского. Толстого привлекала и сама личность полугрека-полуфранцуза Шенье, который весь был в свободолюбивых идеях XVIII века, но не принял якобинского террора, заявив открыто: «Хорошо, честно, сладостно ради строгих истин подвергаться ненависти бесстыжих деспотов, тиранизирующих свободу во имя самой свободы» и кончив жизнь в тридцать два года под ножом гильотины за два дня до падения Робеспьера. Противоречия французской революции заставляли Толстого упорно размышлять о судьбе художников в эпохи политических сдвигов. Ведь у Шенье, как и у Толстого, был «луч света впереди». Неосуществленность собственных намерений беспокоила Толстого всякий раз при воспоминании о том, как Шенье, поднявшись на эшафот, ударил себя по лбу и сказал: «А все-таки у меня там кое-что было!»
От мыслей возвышенных он спускался к изъявлению самой обыкновенной ревности, потому что накануне вечером Софью Андреевну увез с бала кавалер в мундире полицейского ведомства. Но это было последнее письмо, в котором Толстой обращался к возлюбленной на «вы». И уже скоро ему кажется, что «мы родились в одно время и знали всегда друг друга, и потому, совершенно тебя не зная, я сразу же устремился к тебе, потому что я услышал в твоем голосе что-то родное... Вспомни, вероятно, то же почувствовала и ты...»
Отныне каждое его письмо к ней будет исполнено величайшего доверия, каждое из них будет исповедью и признанием в любви.
До нас дошел лишь страстный монолог Алексея Константиновича (письма Софьи Андреевны не сохранились), говорящий об их духовной близости, в которой литература, искусство, философия, мистика играли роль второстепенную, давая возможность изливать свое, давно копившееся, выстраданное и до поры затаенное. Человек талантлив, но без повода, без отклика, без понимания он может так и не высказаться, остаться до конца во власти смутных ощущений, носить в себе обрывки мыслей, неразвившихся и незаконченных.
Себя Толстой считал некрасивым, немузыкальным, неэлегантным... Их много было, всяких «не». Софья Андреевна любила немецкую музыку, а Толстой ее не понимал и огорчался тем, что возлюбленная ускользает от него у дверей Бетховена.
В Толстом все больше росло отвращение к службе. Он старался всеми способами уклониться от дежурств во дворце. Софья Андреевна сочувственно относилась к его стремлению порвать с придворной жизнью и уйти с головой в творчество. И тем не менее могучие родственники продвигали его. В феврале он становится коллежским советником, а в мае его делают «церемониймейстером Двора Его Величества». Наследник престола, будущий император Александр II, считает его незаменимым спутником в поездках на охоту, часто бывает в Пустыньке, в доме, который был обставлен со всей возможной роскошью - туда свезены булевская мебель, множество произведений искусства, драгоценный фарфор, принадлежавшие Перовским. Все это расставлено со вкусом, радовало глаз, и Толстой с удовольствием проводил время в Пустыньке. Ему хотелось рисовать, лепить, а больше гулять по лесам и полям или ездить верхом.
Он неотступно думает о Софье Андреевне. Она недоговаривает что-то, а порой избегает его. Толстой винит я этом себя. Это он оказался недостаточно чутким... А может быть, он уже охладел к ней? Женщина способна предугадать то, что мужчина еще не осознает. Сомнения питают музу.
С ружьем за плечами, один, при луне,
Я по полю еду на верном коне.
Я бросил поводья, я мыслю о ней,
Ступай же, мой конь, по траве веселей!..
И с ним насмешливый двойник, будто бы угадывающий истинное состояние Толстого, предсказывающий тривиальный конец его любви:
«Смеюсь я, товарищ, мечтаньям твоим,
Смеюсь, что ты будущность губишь;
Ты мыслишь, что вправду ты ею любим?
Что вправду ты сам ее любишь?
Смешно мне, смешно, что, так пылко любя,
Ее ты не любишь, а любишь себя.
Опомнись, порывы твои уж не те!
Она для тебя уж не тайна,
Случайно сошлись вы в мирской суете,
Вы с ней разойдетесь случайно.
Смеюся я горько, смеюся я зло
Тому, что вздыхаешь ты так тяжело».
Но у Толстого не всегда можно понять, где он убийственно серьезен, а где так же убийственно ироничен. Это прутковская черта...
В немногих сохранившихся отрывках писем Толстого к Софье Андреевне нет уже никакой иронии. Видимо, она писала ему, что его чувство - лишь восторженное возбуждение. Оно пройдет, и Толстой уже не будет любить ее. Он чувствовал в ее словах недосказанность, которая тревожила его. Она намекала на обстоятельства, неведомые ему. Ей было страшно... А он не понимал, чего же она страшится, не понимал ее «забот, предчувствий, опасений», говорил, что цветок исчезает, но остается плод, само растение. Да, он знает, что любовь не вечное чувство. Но стоит ли пугаться этого? Ну, пройдет любовь, но останется благословенная дружба, когда люди уже не могут обойтись друг без друга, когда один становится как бы естественным продолжением другого. Он уже и теперь чувствует, что он - в большей мере она, что Софья Андреевна для него больше, чем второе «я».
«Клянусь тебе, как я поклялся бы перед судилищем господним, что люблю тебя всеми способностями, всеми мыслями, всеми движениями, всеми страданиями и радостями моей души. Прими эту любовь, какая она есть, не ищи ей причины, не ищи ей названия, как врач ищет названия для болезни, не определяй ей места, не анализируй ее. Бери ее, какая она есть, бери не вникая, я не могу дать тебе ничего лучшего, я дал тебе все, что у меня было драгоценного, ничего лучшего у меня нет...»
Как-то она показала ему свой дневник, и его поразила там фраза:
«Для достижения истины надо раз в жизни освободиться от всех усвоенных взглядов и заново построить всю систему своих знаний».
Он и сам так думал всегда, но не мог выразить точно, как это сделала умница Софья Андреевна. «Я - словно какой-нибудь сарай или обширная комната, полная всяких вещей, весьма полезных, порой весьма драгоценных, но наваленных кое-как одна на другую; с тобой я и хотел бы разобраться и навести во всем порядок».
Его посещают мысли, обычные для любой незаурядной, творческой личности. Как же так получилось, что он бесплодно прожил половину жизни? У него столько противоречивых особенностей, которые приходят в столкновение, столько желаний, столько потребностей сердца, которые он силится примирить... Но примирения, гармонии не получается. Всякая попытка проявить себя творчески приводит к такой борьбе противоречий в нем самом, что все существо выходит из этой борьбы растерзанным. Он живет не в своей среде, не следует своему призванию, в душе полный разлад, и получается, что он обыкновенный лентяй, хотя, в сущности, деятелен по природе...
Значит, все надо менять, все в самом себе поставить на свои места, и помочь ему в этом может лишь один человек - Софья Андреевна.
Лето 1851 года было жарким. Вернувшись из лесу, Толстой садился за письма к Софье Андреевне, рассказывал ей, как влекут его лесные запахи. Они напоминают о детстве, проведенном в Красном Роге, столь богатом лесами. Рыжики, всякий сорт грибов пробуждает в нем множество картин из прожитого. Он любит запах моха, старых деревьев, молодых, только что срубленных сосен... Запах леса в знойный полдень, запах леса после дождя, запахи цветов...
Анна Алексеевна уже проведала о связи сына с Софьей Андреевной, но на отношения с замужней женщиной она смотрела спокойно, потому что считала их несерьезным, кратковременным увлечением, не видела в чувстве сына к Софье Андреевне ничего угрожающего эгоистической материнской любви.
Софья Андреевна уехала к брату в Пензенскую губернию, в родовое имение Бахметевых село Смальково. Толстой тоскует и пишет ей из Пустыньки пространное письмо, в котором снова звучит мотив вечности любви, ее предопределения и фатальности. И, пожалуй, это главное письмо, его кредо, которого он держался всю жизнь неуклонно.
«...Бывают минуты, в которые моя душа при мысли о тебе как будто вспоминает далекие-далекие времена, когда мы знали друг друга еще лучше и были еще ближе, чем сейчас, а потом мне как бы чудится обещание, что мы опять станем так же близки, как были когда-то, и в такие минуты я испытываю счастье столь великое и столь отличное от всего доступного нашим представлениям здесь, что это словно предвкушение или предчувствие будущей жизни. Не бойся лишиться своей индивидуальности, а пусть бы ты даже и лишилась ее, это ничего не значит, поскольку наша индивидуальность есть нечто приобретенное нами, естественное же и изначальное наше состояние есть добро, которое едино, однородно и безраздельно. Ложь, зло имеет тысячи форм и видов, а истина (или добро) может быть только единой... Итак, если несколько личностей возвращаются в свое естественное состояние, они неизбежно сливаются друг с другом, и в этом состоянии нет ничего ни прискорбного, ни огорчительного...»
А поскольку «изначальное наше состояние есть добро», то возникает его глубокое уважение к людям, способным жить естественно, не подчиняя себя условностям света и требованиям «так называемой службы». Толстому кажется, что таковы люди искусства, что у них и мысли другие, и лица добрые. Он рассказывает, какое удовольствие доставляет ему видеть людей, посвятивших себя какому-нибудь искусству, не знающих службы, не занимающихся под предлогом служебной надобности «интригами одна грязнее другой». Он идеалист, наш герой, считающий, что людям искусства несвойственно интриганство. В их мире ему видится возможность «отдохнуть» от вечного пребывания в служебной форме, от соблюдения правил бюрократического общежития, от чиновничьего рабства, которого неспособен избежать ни один из служащих, на какой бы высокой ступени иерархической лестницы он ни находился.
«Не хочется мне теперь о себе говорить, а когда-нибудь я тебе расскажу, как мало я рожден для служебной жизни и как мало я могу принести ей пользы...
Но если ты хочешь, чтобы я тебе сказал, какое мое настоящее призвание, - быть писателем.
Я еще ничего не сделал - меня никогда не поддерживали и всегда обескураживали, я очень ленив, это правда, но я чувствую, что мог бы сделать что-нибудь хорошее, лишь бы мне быть уверенным, что я найду артистическое эхо, и теперь я его нашел... это ты.
Если я буду знать, что ты интересуешься моим писанием, я буду прилежнее и лучше работать.
Так знай же, что я не чиновник, а художник».
И вот тут мы приближаемся к тяжкому испытанию любви Алексея Константиновича Толстого к Софье Андреевне Миллер. Это письмо отправлено из Пустыньки в Смальково 14 октября 1851 года, а через несколько дней туда же устремляется сам Толстой, чтобы услышать исповедь любимой женщины...
И уже 21 октября он пишет стихотворение, обращенное к Софье Андреевне, полное любви и намеков на их мучительные объяснения:
Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!
Жизнью твоею я жил и слезами твоими я плакал...
Многое больно мне было, во многом тебя упрекнул я;
Но позабыть не хочу ни ошибок твоих, ни страданий...
Что же случилось за эти семь дней? Почему Толстой, только что написавший длинное послание и не обмолвившийся в нем ни словом об «ошибках и страданиях» Софьи Андреевны, вдруг срывается с места и, вооруженный самой грозной подорожной, понукая ямщиков, загоняя лошадей, мчится в Смальково?
Анна Алексеевна Толстая наконец поняла, что у сына ее не простая любовная интрижка, и стала интересоваться его избранницей. Навела справки, и услужливые сплетники наговорили ей о Софье Андреевне такого, что она пришла в ужас. Графине даже показали в театре на некую особу, приняв ее за Софью Андреевну по созвучию имен. Вульгарная внешность особы крайне шокировала Анну Алексеевну, которая едва ли не в тот же вечер напрямик спросила сына, каковы его отношения с Софьей Андреевной, любит ли он ее...
Не способный кривить душой, Алексей Константинович сказал, что любит, что не знает более чудесной и умной женщины, чем Софья Андреевна Миллер, и если бы той удалось развестись с мужем, он почел бы за счастье ее согласие стать подругой жизни... Анна Алексеевна гневно прервала его и высказала все, что слышала и сама думает о Софье Андреевне.
Твердо уверенный, что Софьи Андреевны нет в Петербурге, он улыбался, когда мать расписывала даму, виденную ею в театре, но стоило в рассказе матери замелькать фамилии Бахметевых и разным знакомым подробностям, которые тесно увязывались с тем, о чем он еще не знал, но мог бы догадаться, если б захотел, как улыбка сползла с его лица. Он был потрясен. Ему захотелось тотчас увидеться с Софьей Андреевной, объясниться с ней, услышать из ее уст, что все это неправда...
Толстому понадобилось срочно навестить дядю Василия Алексеевича Перовского в Оренбурге, а путь туда пролегал через Пензенскую губернию. Промелькнул Саранск, и вот уже Смальково - церковь с высокой колокольней, двухэтажный дом Бахметевых, полускрытый разросшимися вербами, деревенские избы. Входя в дом, он услышал звуки рояля и голос, «от которого он сразу же встрепенулся», дивный голос, навсегда пленивший его...
Софья Андреевна так обрадовалась его приезду, что ему было неловко начинать неприятный разговор. Когда же он стал упрекать ее в скрытности, она разрыдалась, сказала, что любит его и потому не хотела огорчать. Она скажет ему все, и он волен верить или не верить ей...
Об их объяснении мы можем только догадываться. Были упреки Толстого, но было и сострадание, прощение, безграничное великодушие. Вскоре он напишет ей: «Бедное дитя, с тех пор как ты брошена в жизнь, ты знала только бури и грозы. Даже и в самые лучшие минуты, те, когда мы находились вместе, тебя волновали какая-нибудь неотвязная забота, какое-нибудь предчувствие, какое-нибудь опасение...»
Прошлое Софьи Андреевны было туманным и неблагополучным.
Сохранились лишь немногие письма Толстого к Миллер, в которых случайно уцелели намеки на его страдания и ее прошлое - после его смерти она беспощадно уничтожила собственные письма, а из оставленных писем Алексея Константиновича вырезала даже отдельные строчки...
Но в «Путешествии за границу М.Н. Похвиснева, 1847 года» есть упоминание о тщательно скрывавшейся драме:
«С нами в дилижансе едет граф Толстой, отец московской красавицы Полины (слывущей так в Москве), вышедшей недавно замуж за кн. Вяземского, убившего на дуэли преображенца Бахметева... Граф с гордостью рассказывает нам про своего зятя, наделавшего много шуму своею историею с Бахметевым; дело стало за сестру Бахметева, на которой Вяземский обещал жениться и которую, говорят, он обольстил; брат вступился за сестру и был убит Вяземским. Суд над ним кончился, и приговор ему объявили, вместе с сыном гр. Толстого (бывшего у него секундантом), при дверях Уголовной палаты. Благодаря ходатайству старухи Разумовской, тетки Вяземского, последнему вменено в наказание двухгодичный арест...»
Сколько же их, Толстых и Разумовских, связанных к тому времени родственными узами едва ли не со всеми именитыми дворянскими родами! Даже у мужа Софьи Андреевны, конногвардейца Льва Федоровича Миллера, мать Татьяна Львовна - урожденная Толстая.
Жизнь Софьи Андреевны в родном доме стала невыносимой. Чтобы бежать от косых взглядов (в семье считали ее виновницей гибели брата), она вышла замуж за страстно влюбленного в нее ротмистра Миллера. Но брак оказался неудачным, она питала отвращение к мужу и вскоре ушла от него.
Софья Андреевна исповедовалась Толстому, но была ли ее исповедь полной, было ли ее чувство таким же глубоким и сильным, как его, не узнать никогда. Если нет, то она была несчастлива со своими «заботами, предчувствиями, опасениями». Он же был мучительно счастлив...
Сострадание и великодушие сильного человека отчетливо видны в концовке того стихотворения, в котором он говорил, что не хочет забывать ошибок Софьи Андреевны.
Дороги мне твои слезы и дорого каждое слово!
Бедное вижу в тебе я дитя, без отца, без опоры;
Рано познала ты горе, обман и людское злословье,
Рано под тяжестью бед твои преломилися силы!
Бедное ты деревцо, поникшее долу головкой!
Ты прислонися ко мне, деревцо, к зеленому вязу:
Ты прислонися ко мне, я стою надежно и прочно!
Через десять дней складывается еще одно стихотворение, позднее ладом своим заворожившее композиторов Лядова и Аренского.
Ты не спрашивай, не распытывай,
Умом-разумом не раскидывай:
Как люблю тебя, почему люблю,
И за что люблю, и надолго ли?
Ты не спрашивай, не раскидывай:
Что сестра ль ты мне, молода ль жена
Или детище ты мне малое?
И не знаю я, и не ведаю,
Как назвать тебя, как прикликати.
Много цветиков во чистом поле,
Много звезд горит по поднебесью,
И назвать-то их нет умения,
Распознать-то их нету силушки.
Полюбив тебя, я не спрашивал;
Не разгадывал, не испытывал,
Полюбив тебя, я махнул рукой,
Очертил свою буйну голову!
Из Смалькова Толстой отправился к дяде Василию Алексеевичу Перовскому в Оренбург, и в пути у него было время поразмыслить о Софье Андреевне и ее семье...
Приятной неожиданностью было узнать, что Софья Андреевна, как и он, любит охоту, ездит верхом по-мужски, в казачьем седле, носится во весь опор по полям с нагайкой и с ружьем за плечами, и повадки у нее словно у заправского доезжачего...
Познакомился он и с многочисленными Бахметевыми - главой семейства Петром Андреевичем, его женой, детьми Юрием, Софьей, Ниной, сестрами Софьи Андреевны, еще одним ее братом, Николаем Андреевичем, о котором говорили, что он «душа и нерв» всего местного общества. «Суета он страшная, неугомонен как бес, но зато вносит с собою жизнь всюду, куда входит». Звали его все Коляшей. Софью Андреевну он обожал, считал верхом совершенства. Отношения между всеми Бахметевыми были весьма сложные.
За одним из Бахметевых была замужем Варвара Александровна, Варенька, урожденная Лопухина, в которую был влюблен Лермонтов. Муж Варвары Александровны отравлял ей жизнь - в каждой повести или драме поэта, где выводился муж-глупец, жена которого любит другого, ему чудилась насмешка, издевательство. Софья Андреевна знала все об этих семейных ссорах, потому что одно время, совсем юная, жила у Варвары Александровны, была воспитана ею, обязана ей своим развитием.
В Оренбурге, небольшой крепости, окруженной земляными валами и рвами, Толстого радостно встретили Перовский и Александр Жемчужников.
После неудачного Хивинского похода, как мы помним, Перовский вернулся в Петербург, лечил свои раны за границей, хандрил без дела, поскольку обязанности члена Государственного совета казались ему скучными. Он переживал гибель солдат своего отряда.
В столице плотно окружавшие царя бенкендорфы, нессельроде, клейнмихели делали все, чтобы не дать ему возможности оправдаться в своих действиях. Прождав два месяца аудиенции, он решился на отчаянный поступок. На смотру он дышел из строя и скрестил руки на груди. Император нахмурился, но, услышав, что это Перовский, подошел и обнял его.
Перовский добился того, что все оставшиеся в живых участники неудачного похода были награждены. Но совершить новый поход ему не дали. Он долго болел. Когда он совсем слег, его навестил Николай I.
- Что я могу для тебя сделать? - спросил император.
- Мне хотелось бы, ваше величество, чтобы меня хоронили уральские казаки, - ответил Перовский.
Когда на границе понадобились решительные действия, Перовского снова назначили в Оренбургский край и дали ему огромные полномочия.
Он приехал в Оренбург, захватив с собой племянника Александра Жемчужникова в качестве чиновника своей канцелярии. На валах Оренбурга стояли часовые и по ночам протяжно кричали: «Слуша-ай!», отчего их называли царскими петухами.
Всего двенадцать тысяч жителей, считая и войска, было в городке, который властвовал над краем бесконечно большим. А в самом Оренбурге властвовал генерал Обручев, любитель распекать подчиненных и экономить казенные деньги. Он сберег миллион рублей, отослал их в Петербург, но никакой награды за это не получил. Зато к 1851 году Оренбург так и остался кучкой скверных и ветхих зданий.
Но вот захолустье разбужено. Назначенный оренбургским и самарским генерал-губернатором, Перовский привез с собой огромный штат чиновников особых поручений и адъютантов, завел множество новых учреждений и зажил так пышно, что льстецы стали сравнивать его с Людовиком XIV.
Подвластные ему области простирались от Волги и до отрогов Урала. На него возлагались дипломатические отношения с Хивой и Бухарой, на одни приемы казна отпускала ему полмиллиона рублей в год.
Планы Перовского были громадны, и он впоследствии осуществил их.
При нем в казахской степи было построено много укреплений, положивших начало нынешним городам, исследовано Аральское море, взята штурмом кокандская крепость Ак-Мечеть, переименованная потом в форт Перовский, заключен договор с Хивой, подрывавший основы этого тиранического рабовладельческого государства. Действия Перовского предопределили присоединение к России обширных среднеазиатских территорий.
Современник писал о нем:
«Энергия, быстрота, натиск - вот были главные особенности деятельности Перовского.
Красавец собой, статный, повыше среднего роста, хорошо воспитанный, он в обществе производил чарующее впечатление. Особенно в восторге от него были дамы, которые, кажется, считали для себя священным долгом влюбляться в него и чуть не бегали за ним - куда он, туда и они. Подчас он так умел очаровывать их, что, как говорится, в душу влезет. Но другой раз от одного его сердитого взгляда эти же дамы падали в обморок».
Перовский очень гордился тем, что по своей должности является и атаманом оренбургского казачьего войска, насчитывавшего двенадцать полков. Один из полков располагался в станице, примыкавшей к городу. Казаки жили привольно, торговали на Меновом дворе, громадном рынке, раскинувшемся за рекой Уралом.
Кого только не видел этот рынок! Караваны верблюдов и лошадей стекались сюда из Бухары, Хивы, Коканда, Ташкента, Акмолинска...
Крики, ржанье, топот... На десятках языков люди торговались, спорили, приходили к согласию. Большинство было неграмотно, не умело считать деньги и признавало только меновую торговлю.
Не имевший своей семьи Василий Алексеевич Перовский считал своим долгом опекать сыновей своих сестер Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых. Попадая в Оренбург, Толстой оказывался в обществе для него приятном, много охотился, участвовал в веселых проделках Александра Жемчужникова...
Во время своих поездок в Оренбург поэт часто обгонял вереницы колодников, которые брели по степи на восток. Хмурые, с бритыми лбами, гремя цепями, они косились на проезжавший экипаж и пели иногда свои заунывные песни. Под впечатлением таких встреч Толстой написал стихотворение «Колодники», которое было опубликовано много лет спустя и, положенное на музыку А. Т. Гречаниновым, стало одной из популярнейших революционных песен. Ее очень любил В. И. Ленин и часто пели политкаторжане.
Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль, -
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пыль...
Толстой и Жемчужниковы, пользуясь родственными связями, часто вступались за художников и писателей, подвергавшихся репрессиям. Еще в 1850 году они просили Василия Алексеевича Перовского вступиться за Шевченко. В делах III Отделения сохранилось письмо генерала к Дубельту:
«Зная, как у вас мало свободного времени, я не намерен докучать вам личными объяснениями и потому, прилагая при сем записку об одном деле, прошу покорнейше ваше превосходительство прочесть ее в свободную минуту, а потом уведомить меня: можно ли что-либо, по вашему мнению, предпринять в облегчение участи Шевченко?»
В записке было изложение дела украинского художника и поэта, «отправленного на службу рядовым за сочинение на малороссийском языке пасквильных стихов... С тех пор рядовой Шевченко вел себя отлично... В прошлом году... командир отдельного Оренбургского корпуса (Обручев. - Д. Ж.), удостоверившись в его отличном поведении и образе мыслей, испрашивал ему дозволения рисовать, но на это представление последовал отказ... Рядовому Шевченко около сорока лет; он весьма слабого и ненадежного сложения...»
Дубельт ответил: «Вследствие записки вашего превосходительства от 14 февраля, я счел обязанностью доложить г. генерал-адъютанту графу Орлову... Его сиятельство... изволили отозваться, что при всем искреннем желании сделать в настоящем случае угодное вашему высокопревосходительству, полагает рановременным входить со всеподданнейшим докладом...»
А через два месяца Шевченко, который жил в Оренбурге сравнительно вольно и вопреки запрещению рисовал и писал, был вновь арестован.
Ко времени назначения В. А. Перовского начальником Оренбургского края стараниями III Отделения Шевченко уже перевели из города в Орскую крепость, а потом на Мангышлак.
Лев Жемчужников впоследствии писал биографу Шевченко, А. Я. Конисскому:
«Перовский знал о Шевченко от К. П. Брюллова, Вас. Андр. Жуковского и пр. Просил за Шевченко у Перовского, при проезде его через Москву, и граф Андр. Ив. Гудович (брат жены Ильи Ив. Лизогуба); просил за него и в Петербурге и в Оренбурге двоюродный брат мой, известный теперь публике поэт, граф А. К. Толстой. Но Перовский, хотя и был всесильным сатрапом, как выразился Шевченко, ничего не мог сделать для Шевченко: так был зол на поэта император Николай Павлович. Перовский говорил Лизогубам, Толстому и Гудовичу, что лучше теперь молчать, чтобы забыли о Шевченко, так как ходатайство за него может послужить во вред ему. Факт этот есть факт несомненный и серьезный, так как освещает личность В. А. Перовского иначе, чем думал о нем Шевченко. Перовский, суровый на вид, был добр, чрезвычайно благороден и рыцарски честен: он всегда облегчал судьбу сосланных, о чем не раз заявляли эти сосланные поляки и русские, но в пользу Шевченко он сделать что-либо был бессилен. Император Николай считал Шевченко неблагодарным и был обижен и озлоблен за представление его жены в карикатурном виде в стихотворении «Сон»...»
Царь не мог простить поэту таких строк:
Сам по залам выступает
Высокий, сердитый.
Прохаживается важно...
С тощей, тонконогой,
Словно высохший опенок,
Царицей убогой,
А к тому ж она, бедняжка,
Трясет головою.
Это ты и есть богиня?
Горюшко с тобою!
Шевченко тянул солдатскую лямку в Новопетровском укреплении, на пустынном и жарком берегу Каспийского моря. «Но добрые люди, несомненно, продолжали думать и заботиться о Шевченко, и к числу таких принадлежали, как мне хорошо известно, Алексей Толстой, Лизогубы и тот же В. А. Перовский», - писал Лев Жемчужников в своих воспоминаниях.
Став оренбургским генерал-губернатором, Перовский через своих приближенных не раз намекал командирам Шевченко о том, что притеснять поэта не следует, а в письме жены коменданта Новопетровского укрепления Усковой к тому же А. Я. Конисскому говорится прямо, что «когда И. А. (Усков) при отъезде из Оренбурга в форт пошел прощаться к Перовскому, то тот первый заговорил о Шевченко и просил мужа как-нибудь облегчить его положение...».
А. А. Кондратьев уверяет, что Толстой вернулся из Оренбурга в Петербург едва ли не весной 1852 года, заехав по дороге опять в Смальково. Однако этому утверждению противоречит письмо Софье Андреевне, отправленное из Петербурга. В нем Алексей Константинович «жалеет» о пребывании своем в Смалькове, поскольку «в самом разгаре аристократических увлечений» он желал для себя деревенской жизни. Письмо датировано 1851 годом по книге Лиронделя.
И в Петербурге Алексей Константинович жалел, что ему не хватает слов, чтобы передать свое состояние вдали от Смалькова. Вот он вернулся с бала-маскарада, где отбывал служебную повинность - сопровождал наследника престола.
«Как мне было там грустно! Не езди никогда на эти противные балы-маскарады! - восклицает он, хотя обязан своим знакомством с Софьей Андреевной именно им. - Мне так бы хотелось освежить твое бедное сердце, так бы хотелось дать отдохнуть тебе от всей твоей жизни!»
Да, Смальково, деревня, любимая женщина... Там, в смальковском доме, было благостно и спокойно. А что тут? «Вся сутолока света, честолюбие, тщеславие и т. д.». Это неестественно, это недобрый туман. Сквозь него и сейчас словно бы слышен ее голос:
- Я навсегда отказываюсь от этого ради любви к тебе!
Им овладевает чувство безраздельного счастья. Слова, сказанные ею в Смалькове, вновь и вновь звучат в душе как уверение, что отныне ничто не причинит зла ни ей, ни ему.
«Это твое сердце поет от счастья, а мое его слушает, а так как все это - в нас самих, то его у нас и нельзя отнять, и даже среди мирской суеты мы можем быть одни и быть счастливыми. Характер у меня с надрывом, но мелочности в нем нет - даю тебе слово».
Русская литература не мыслится без любовной лирики, создававшейся большим чувством Алексея Константиновича Толстого.
... И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало.
Все было непросто в этой любви.
Непросто было получить согласие на развод у Миллера.
Непросто было с Анной Алексеевной. Есть упоминание о письме Толстого к матери, в котором он еще и еще говорит о своем чувстве, просит простить его, умоляет не верить нехорошим слухам о Софье Андреевне...
Следующие два года Толстой мечется между Пустынькой, своей петербургской квартирой в доме Виельгорского на Михайловской площади и Смальковом.
Известно, что писал Толстой любимой едва ли не каждый день. Вот строки из письма от 23 июня 1852 года, впервые публикующиеся на русском языке:
«Я знаю, что, когда ты будешь читать это письмо, я буду возле тебя. Я не могу не писать тебе - это сильнее меня. И так будет до конца моей жизни, я буду жить только тобой».
Изредка Толстой выезжает за границу и на воды по настоянию матери. Та страдает, шлет ему отчаянные письма, «со всем пылом восстает» против его самостоятельности, а он страдает из-за ее огорчения. «Любовь моя растет из-за твоей печали», - пишет он Анне Алексеевне.
Иногда переписка с матерью носит ожесточенный характер. Потом Толстой кается: «Не помню, что тебе писал, находясь под дурным впечатлением...» Порой обиженная мать вообще перестает отвечать на его письма.
С весны и почти весь 1851 год Иван Сергеевич Тургенев был в Спасском-Лутовинове. Но его часто поминали в письмах.
Софья Андреевна похваливала Тургенева. Толстой воспринимал эти похвалы ревниво.
«...Но теперь поговорим о Тургеневе. Я верю, что он очень благородный и достойный человек, но я ничего не вижу юпитеровского в его лице!..»
Алексей Константинович припоминал русское мужичье лицо, шелковое кашне вокруг шеи по-французски, мягкий голос, так не вязавшийся с большим ростом и богатырским сложением Тургенева, и добавлял:
«Просто хорошее лицо, довольно слабое и даже не очень красивое. Рот в особенности очень слаб. Форма лба хорошая, но череп покрыт жирными телесными слоями. Он весь мягкий».
Что-то между Тургеневым и Софьей Андреевной было в самом начале их знакомства. Но что? Тургенев писал ей потом:
«Мне нечего повторять вам то, о чем я писал вам в первом моем письме, а именно: из числа счастливых случаев, которые я десятками выпускал из своих рук, особенно мне памятен тот, который свел с вами и которым я так дурно воспользовался... Мы так странно сошлись и разошлись, что едва ли имели какое-нибудь понятие друг о друге, но мне кажется, что вы действительно должны быть очень добры, что у вас много вкуса и грации...»
В начале 1852 года Тургенев приехал в Петербург.
Он поселился на Малой Морской, принимал многочисленных знакомых. Александринка в бенефис Мартынова поставила его комедию «Безденежье». И тут вскоре пришло известие, что в Москве умер Гоголь.
«Гоголь умер!.. Какую русскую душу не потрясут эти слова?.. - писал Тургенев в статье. - Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся как одной из слав наших!»
Цензура не разрешила напечатать эту статью в «Петербургских Ведомостях».
Москва хоронила Гоголя торжественно, сам генерал-губернатор ее Закревский, надев Андреевскую ленту, проводил писателя... Из Петербурга дали понять Закревскому, что такая торжественность была неуместна.
Умер автор «Переписки с друзьями», которая, казалось бы, должна была примирить с ним власти предержащие. На него обрушился Белинский в своем знаменитом письме, хранить и читать которое считалось государственным преступлением. Кстати, Тургенев провел то лето, когда оно писалось, вместе с Белинским в Зальцбрунне... Но Гоголь был провозглашен Белинским отцом «натуральной школы» и стал знаменем неблагонамеренных.
Пушкина похоронили тихо, чтобы избежать «неприличной картины торжества либералов», как говорилось в отчете о действиях корпуса жандармов.
Те же соображения сопутствовали и смерти Гоголя.
Тургенев отослал свою статью в Москву, где она и появилась стараниями Боткина и Феоктистова в «Московских Ведомостях» под видом «Письма из Петербурга».
Последовал «всеподданнейший доклад» III Отделения о Тургеневе и «его сообщниках», напечатавших статью в обход цензуры.
«...За явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину под присмотр, а с другими поступить предоставить г. Закревскому распорядиться по мере их вины».
Наложив резолюцию, Николай I спросил о Тургеневе:
- Он чиновник?
- Никак нет, ваше величество, нигде не служит.
- Ну, такого нельзя на гауптвахту, посадить его в полицию.
Так Тургенев оказался в съезжей 2-й Адмиралтейской части.
По воспоминаниям Ольги Николаевны Смирновой, арест Тургенева произошел едва ли не у них дома. «Он обедал у нас с гр. А. К. Толстым (после кончины Гоголя в 1852 г.). В моем дневнике я нашла подробности и даже разговоры по случаю смерти Гоголя, о его пребывании у нас в деревне летом, в подмосковной отца» и т. д. Принимала писателей как-то внезапно постаревшая Александра Осиповна Россет-Смирнова. Ольга Николаевна записала интересный разговор матери с Толстым и Тургеневым, расспрашивавшим ту о Пушкине, Лермонтове и Гоголе.
То ли Тургенев, то ли Толстой спросил, что больше всего понравилось царю в «Борисе Годунове». И она ответила, что сам царь говорил ей о прекрасной сцене, где Борис дает советы сыну. Она приводила слова Пушкина о необходимости освобождения крестьян, без которого не может правильно развиваться страна. Рассказывала и о том, как Гоголь с благоговением заносил все слышанное от Пушкина в карманную книжку...
После ареста Алексей Толстой тотчас отправился к Тургеневу в полицию и посоветовал написать письмо к наследнику престола. Он не раз и не два говорит с будущим царем.
21 апреля он пишет Софье Андреевне: «Я только что вернулся от великого князя, с которым снова говорил о Тургеневе. Кажется, что имеются другие претензии к нему, кроме дела со статьей о Гоголе. Посещать его запрещено, но мне разрешили переслать ему книги».
Главной среди «других претензий» была книга «Записки охотника».
На Толстого эта книга произвела впечатление неизгладимое. Он писал из Пустыньки к любимой:
«Я прочел моей матери весь второй том «Записок охотника», которые она прослушала с большим удовольствием. В самом деле, очень хорошо - без окончательной формы... оно как-то переходит из одного в другое и принимает всевозможные формы, зависящие от настроения духа, в котором находишься... Мне напоминает это какую-то сонату Бетховена... что-то деревенское и простое...
Когда я встречаю что-нибудь подобное, - я чувствую, что энтузиазм подымается к голове по спинному хребту так же, как когда я читаю прекрасные стихи. Многие из его характеров - драгоценные камни, но не обтесанные.
Мой ум медлен и находится под влиянием моих страстей, но он справедлив.
Думаешь ли ты, что из меня что-нибудь когда-нибудь выйдет?
И что может когда-нибудь из меня выйти?
Если бы дело было только в том, чтобы взять в руки факел и поджечь пороховую мину и себя взорвать вместе с нею, я сумел бы это сделать; но столько людей сумели бы также это сделать... Я чувствую в себе сердце, ум - и большое сердце, но на что оно мне?»
В этих почти юношеских мыслях никак не узнается влиятельный царедворец. Но что есть мерило зрелости? Житейский успех, связи в обществе? Для Толстого это не было жизнью. Художник в нем уже созрел, но Толстой хотел сбросить груз прежних сомнений, поделившись с Софьей Андреевной.
«...Подумай, что до 36 лет мне было некому поверять мои огорчения, некому излить мою душу».
Тургенев, высланный в Спасское-Лутовиново, писал оттуда Софье Андреевне 19 мая 1853 года:
«Вы мне говорите о графе Т(олстом). Это человек сердечный, который возбудил во мне большое чувство уважения и благодарности. Он едва знал меня, когда случился мой неприятный случай, и, несмотря на это, никто мне не выказывал столько сочувствия, как он, и сегодня еще он, может быть, единственный человек в Петербурге, который меня не забыл, единственный, по крайней мере, который это доказывает. Какой-то жалкий субъект вздумал говорить, что благодарность - тяжелая ноша; для меня же - я счастлив, что благодарен Т(олстому), - всю жизнь сохраню к нему это чувство».
Толстой подсказывал Тургеневу, кому что писать, чтобы разрешили вернуться в Петербург. Но все было напрасно. Тогда Алексей Толстой сделал очень рискованный шаг.
Он обратился к шефу жандармов графу Орлову от имени наследника престола. Орлов не мог отказать и 14 ноября 1853 года сделал доклад царю о разрешении Тургеневу жить в столице.
Царь положил резолюцию:
«Согласен, но иметь под строгим здесь присмотром».
Орлов уже написал наследнику, что просьба того исполнена, и передал письмо генералу Дубельту для отправки.
Толстой оказался на краю пропасти. Дело было в том, что наследник за Тургенева не просил. Толстой обманул Орлова.
Сделав вид, что ничего не знает о царской резолюции, Толстой поехал в III Отделение.
Леонтий Васильевич Дубельт был не прочь пофилософствовать о благодетельности существующих порядков, о покорности русского мужика. Он говаривал: «Россию можно сравнить с арлекинским платьем, которого лоскутки сшиты одною ниткою, - и славно и красиво держится. Эта нитка есть самодержавие. Выдерни ее - и платье распадется».
Толстого он принял немедленно, был с ним чрезвычайно любезен. Алексей Константинович, выслушав мысли Дубельта с преувеличенным вниманием, как бы между прочим ввернул, что наследник престола, конечно, расположен к Тургеневу, о чем он, Толстой, и говорил графу Орлову. Но тот, видно, счел этот разговор прямым ходатайством наследника, и теперь это недоразумение может быть неправильно понято его императорским высочеством...
В своей книге о николаевских жандармах М. Лемке писал:
«Как ни был хитер Дубельт, но он не понял хитрости Толстого и просил Орлова изменить редакцию бумаги к наследнику. Орлов написал: «Если ты думаешь, что бумага моя к цесаревичу может сделать вред гр. Толстому, то можешь ее не посылать, тем более что Тургенев сам просил».
Таким образом, Толстой был спасен.
В Спасское-Лутовиново полетело письмо Толстого с поздравлениями и пожеланием, чтобы Тургенев немедленно выехал в Петербург и не задерживался, проезжая Москву, чтобы в самом Петербурге он тотчас отправился к Толстому, а до этого не встречался ни с кем. Толстому нужно было предупредить Тургенева о том, как сложилось дело и как вести себя в Петербурге. А на случай перлюстрации в письме возносилась хвала наследнику, «много содействовавшему помилованию».
Эту версию и постарались распространить по Петербургу Толстой и его двоюродные братья Жемчужниковы. Григорий Геннади записал в дневнике 28 ноября 1853 года: «Сегодня Ж(емчужников) принес мне новость о прощении Ив. Тургенева. За него хлопотал граф Алексей Толстой у Наследника».
В декабре Тургенев был в Петербурге, а вскоре туда приехала и Софья Андреевна. Художник Лев Жемчужников потом вспоминал:
«Всю зиму 1853 года я провел в Петербурге и нанял себе особую квартиру в деревянном домике, в саду, где жил только хозяин с женой; ход у меня был особый, и этой квартиры никто не знал, кроме А. Толстого, Бейдемана, Кулиша и Тургенева. Я предался сочинению эскизов и чтению... Сюда нередко приходил А. Толстой, бывало состряпает на принесенной им кастрюле рыбу или бифштекс, мы поужинаем с ним и будущей женой его Софьей Андреевной и простимся; он уйдет к себе, а я к отцу, где всегда ночевал... В эту зиму я часто проводил вечера у А. Толстого и Софьи Андреевны, где часто бывал Тургенев и читал нам Пушкина, Шекспира и некоторые свои произведения. Тургенев всегда был интересен, и разговор затягивался, без утомления, иногда до полуночи и более. Софья Андреевна, будущая жена А. Толстого, была хорошая музыкантша, играла пьесы Перголеза, Баха, Глюка, Глинки и др. и вносила разнообразие в наши вечера пением».
Алексей Константинович теперь уже никогда не расстанется с Софьей Андреевной. Им предстоит еще немало испытаний. Толстой умел и прощать и любить. Это свойственно богатырям, людям громадной силы.
Вскоре, весной 1854 года, в «Современнике» появилось несколько стихотворений Алексея Толстого. Наконец он счел возможным опубликовать немногое из того, что написал. И не надо быть особенно понятливым, чтобы уразуметь, чем навеяны стихи:
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой.
Коли пир, так пир горой!
В этом стихотворении многие видели лучшие черты русского характера.
«Мрачное семилетие» продолжалось. Некрасов и Панаев делали все, чтобы спасти журнал «Современник». Им удалось это. Они привлекли к сотрудничеству западника Боткина и либерала Дружинина, публиковали произведения Тургенева, Григоровича, Писемского, Тютчева, Фета. В тот период в «Современнике» дебютировали Гончаров, Лев Толстой и Алексей Толстой. 1854 год ознаменовался появлением на страницах журнала лирики Алексея Константиновича и одной из его ипостасей - многогранного творчества Козьмы Пруткова.
Кружок «Современника» (до появления в нем Чернышевского) был дворянским. Исключение составлял Боткин, но этот купеческий сын ни образованием, ни манерами от бар-литераторов не отличался. Кружок собирался в квартире Некрасова на углу Колокольной улицы и Поварского переулка или в помещении редакции на набережной Фонтанки.
В иные дни на этих обедах царила Авдотья Яковлевна Панаева, небольшого роста, стройная, черноволосая, смуглая и румяная. В ушах ее сверкали крупные бриллианты, а голосок был капризный, как у избалованного ребенка. Ласково глядел на гостей ее супруг Иван Иванович Панаев, всегда модно одетый, с надушенными усами, легкомысленный, одинаково превосходно чувствовавший себя и в великосветских гостиных, и на гусарских пирушках.
Невозможно и сосчитать, сколько раз Некрасов рассылал с лакеем по Петербургу записки такого рода:
«Не придете ли завтра (в пятницу) ко мне обедать. Будут Тургенев, Толстой (А. К.) и некоторые другие. Пожалуйста».
Непременно бывал там высокий русоволосый и тощий Дружинин, с глазами маленькими, по словам Некрасова, «как у поросенка», державший себя, впрочем, английским джентльменом. Наделенный большим чувством юмора, он откликнулся превеселой статьей на появление в фельетоне «Нового Поэта» (Панаева) басни «Кондуктор и Тарантул», предвещавшей рождение Козьмы Пруткова.
Большой обед был дан 13 декабря 1853 года по случаю возвращения Тургенева из ссылки, и Некрасов произнес тогда экспромт, в котором было и такое:
...Он был когда-то много хуже,
Но я упреков не терплю,
И в этом боязливом муже
Я все решительно люблю...
И похвалу его большую
Всему, что ты ни напиши,
И эту голову седую
При моложавости души.
Григорович вспоминал, что в редакции собирались едва ли не каждый день. «...Происходило нечто такое, чего мне ни на одной литературной сходке, ни в каком собрании не приходилось видеть; неровности характера и мелкие временные несогласия как бы оставлялись при входе с шубами. К серьезным литературным прениям присоединялись острые замечания, читались юмористические стихотворения и пародии, рассказывались забавные анекдоты; хохот шел неумолкаемый». Любопытно, однако, другое - почти все мемуаристы, не сговариваясь, объясняют это веселье... цензурным гнетом.
Михаил Лонгинов в то время был весьма либерален. Он всех превосходил в своих насмешках над цензурными нелепостями, но это не помешало впоследствии стать ему самым грозным для литераторов начальником управления по делам печати. Он вспоминал все-таки о «мрачной године», об опасности занятия журналистикой, об унынии пишущих и об отведении души в шутках, поскольку-де все тогда были молоды...
А. Н. Пыпин появился в «Современнике» уже с упрочением в редакции своего родственника Чернышевского и возобладанием серьезной атмосферы, но он еще застал кое-что от прежних лет и писал об этом в своих воспоминаниях о Некрасове:
«Настроение литературного круга, который я видел здесь... (за обедами и ужинами Некрасова. - Д. Ж.) было довольно странное; прежде всего это было, конечно, настроение подавленное; трудно было говорить в литературе даже то, что говорилось недавно, в конце сороковых годов. По распоряжениям негласного комитета даже отбирались некоторые книги прежнего времени, напр., «Отечественные записки» сороковых годов; славянофилам просто запрещали писать или представлять в цензуру свои статьи; оставались возможны только темные намеки и молчание. В кругу «Современника» передавались текущие новости разного рода, цензурные анекдоты, иногда сверхъестественные, или шла незатейливая приятельская болтовня, какая издавна господствовала в холостяцкой компании тогдашнего барского сословия, - а эта компания была и холостяцкая и барская. Нередко она нападала на темы совсем скользкие...»
Когда потом Тургенева спрашивали, как могли люди в такое мрачное время развлекаться подобным образом, он напоминал о «Декамероне» Боккаччио, где в разгар чумы кавалеры и дамы развлекают друг друга историями скабрезного содержания.
- А разве, - заключал Тургенев, - николаевский гнет не был для образованного общества своего рода чумой?
Подобные занятия Дружинин называл «чернокнижием». Григорович вспоминал, что, основательно поработав, Дружинин отдыхал в компании приятелей в специально нанятой квартире на Васильевском острове, где они водили хороводы вокруг гипсовой Венеры Медицейской, распевая скоромные песенки.
Но, несмотря на цензурные гонения и порожденное будто бы ими веселье, литература обогащалась весьма энергично, и многое из опубликованного, тогда в «Современнике» пережило свой век. Шуточное творчество кружка «друзей Козьмы Пруткова» пришлось по душе всей компании литераторов и публиковалось почти весь 1854 год в «Ералаше» - специально затеянном отделе журнала. Первой публикации Некрасов даже предпослал шутливое стихотворное напутствие.
Успех творчества Козьмы Пруткова во многом определил талант Алексея Толстого, его тонкий юмор, сразу вырвавший вымышленного поэта из ряда обыкновенных насмешников, придавший всему складывавшемуся образу непередаваемую сложность и многогранность.
Из помет Владимира Жемчужникова на копиях журнальных текстов известно, что перу Толстого принадлежит «Эпиграмма N 1».
«Вы любите ли сыр?» - спросили раз ханжу,
«Люблю, - он отвечал, - я вкус в нем нахожу».
Им же написаны «Письмо из Коринфа», «Древний пластический грек» и знаменитейший «Юнкер Шмидт».
Вянет лист, проходит лето,
Иней серебрится.
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться.
Погоди, безумный! снова
Зелень оживится...
Юнкер Шмидт! честное слово,
Лето возвратится.
Но, право же, не стоит выяснять, что написано Толстым самостоятельно, а какие прутковские вещи писались вместе с Жемчужниковым. Во всяком случае, лучшие произведения - «Желание быть испанцем», «Осада Памбы», столь любимые Достоевским и другими русскими классиками, несут на себе печать таланта Алексея Константиновича. Позже он написал и «Мой портрет», давая волю дальнейшим фантазиям в формировании образа Козьмы Петровича Пруткова.
Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг1;
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке,
Кто вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке, -
Знай, - это я!
Кого язвят со злостью, вечно новой
Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвет;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, -
Знай - это я!
В моих устах спокойная улыбка,
В груди - змея!..
Образ Козьмы Пруткова неразделим, хотя произведения его - плод коллективного творчества. Трудно выяснить, какие из знаменитых афоризмов Пруткова придуманы Толстым, а какие - Жемчужниковыми.
Козьма Прутков сказал: «Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какой-либо другою, более похожею на судьбу птицею». Творческую судьбу самого Козьмы Пруткова иначе как счастливою не назовешь. И в наше время, употребляя в шутку и всерьез изречения чиновного мудреца, иные не знают даже, кто породил эти меткие слова, потому что они уже неотторжимы от нашей повседневной речи. Известно авторство изречений: «Никто не обнимет необъятного», «Смотри в корень!», «Щелкни кобылу в нос - она махнет хвостом», «Если хочешь быть счастливым, будь им», «Бди!» и другие. Но кто помнит, что такие расхожие фразы, как: «Что имеем, не храним; потерявши - плачем», «Держись начеку!», «Все, говорят, что здоровье дороже всего; но никто этого не соблюдает» - тоже придуманы Козьмой Прутковым. Даже жалуясь, что остался «на сердце осадок», мы повторяем прутковский афоризм.
Еще «при жизни» Козьма Прутков был чрезвычайно популярен. О нем писали Чернышевский, Добролюбов и многие другие критики. Его имя неоднократно с восхищением упоминал в своих произведениях Достоевский. Салтыков-Щедрин любил цитировать Пруткова, создавать афоризмы в его духе. Он непременен в письмах Герцена, Тургенева, Гончарова...
Козьма Прутков не совсем обыкновенный пародист. Он «совмещал» в себе множество поэтов, включая и самых знаменитых, целые литературные направления. Он славился умением довести все до абсурда, а потом одним махом поставить все на свои места, призвав на помощь здравый смысл. Но Прутков не появился на голом месте.
Пушкин был блестящим полемистом. Он любил острое слово. Он учил в споре стилизовать, пародировать слог литературного соперника. Как-то он заметил: «Сей род шуток требует редкой гибкости слога; хороший пародист обладает всеми слогами».
Еще при Пушкине витийствовал в своей «Библиотеке для чтения» Осип Сенковский. Его Барона Брамбеуса тогдашняя читающая публика была склонна воспринимать как живого, реально существующего литератора. Тогда Надеждин публиковал в «Вестнике Европы» свои фельетоны, надев маску «эксстудента» Никодима Аристарховича Надоумко, критикуя романтизм, на смену которому уже шла «натуральная школа».
О времени, предшествовавшем появлению Козьмы Пруткова, Тургенев вспоминал:
«...Явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, даже на театральной сцене... Что было шума и грома!»
Он называет имена этой «ложно величавой школы» - Марлинского, Кукольника, Загоскина, Каратыгина, Бенедиктова...
На хладных людей я вулканом дохну,
Кипящею лавой нахлыну...
Эти бенедиктовские стихи воспринимаются как водораздел между романтизмом Пушкина и нелепостями Козьмы Пруткова.
Читая Козьму Пруткова, часто попадаешь впросак - по форме вроде бы одно, по содержанию другое, а пораскинешь умом, познакомишься поближе со всякими обстоятельствами его эпохи, и окажется там и третье, и четвертое, и пятое... Вот, казалось бы, дошел до дна, ан нет - не одно дно у произведения достопочтеннейшего Козьмы Петровича, а столько, что и со счету собьешься, и уж не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать над несовершенством бытия и человеческой натуры, начинаешь думать, что глупость мудра, а мудрость глупа, что банальные истины и в самом деле полны здравого смысла, а литературные изыски при всей их занятости оборачиваются недомыслием. Литературное тщеславие рождает парадоксы и выспренности, за которыми кроется все та же банальность, и даже в любом литературном абсурде и безумии есть своя логика.
Человеку свойственно обманывать себя, и литератору особенно. Но в минуты прозрения он видит ярче других собственные недостатки и горько смеется над ними. Себе-то правду говорить легко, другим сложнее... Потому что горькой правды в чужих устах никто не любит, и тогда появляется потребность в Козьме Пруткове, в его витиеватой правде, в мудреце, надевшем личину простака...
О том, как воспринимался Прутков читающей публикой, можно судить хотя бы по письму С. В. Энгельгардт (писательницы Ольги Н.) к Дружинину в ноябре 1854 года: «Что же касается «Ералаша», то должна Вам сказать, что я к нему постоянно прибегаю в минуты скуки, а такие минуты, конечно, часто бывают, когда находишься в деревне с сентября месяца. Кузьма Прутков меня положительно веселит, он частенько заставляет бодрствовать до полуночи, и я, как дурочка, хохочу сама с собой. Я сознаюсь в этом, несмотря на мнение москвичей, будто серьезный человек никогда не смеется».
Козьму Пруткова в свое время называли «гениальным по тупости», но в таком определении давно уже стали сомневаться. Знаменитое стихотворение о юнкере Шмидте, хотевшем застрелиться, считали пародией. Но на кого? Потом увидели подкупающую трогательность и незащищенность стихотворения, представили себе уездного фельдшера или почтальона, мечтающего о красивой жизни. Заметили, что написано оно большим поэтом, заметили мастерскую чеканку ритма, превосходную рифму. Советский литературовед В. Сквозников писал о доброй интонации произведения: «Если человеку, утратившему вкус к жизни, находящемуся в состоянии подавленности, скажут: «Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится!» - это будет шуткой, но ведь ободряющей шуткой!»
Если вспомнить, что стихотворение написано в 1851 году, когда Алексей Толстой страдал от неясности ответного чувства Софьи Андреевны, от упреков матери, когда он писал стихотворения, полные любви и боли, то можно подумать и об иронизировании над собой, о прикосновении в шутке к большому чувству. Не потому ли стихотворение так выделяется во всем творчестве Козьмы Пруткова? Ощущение глубинного, выстраданного остается даже в том, что сам Толстой считал пустячком...
Алексей Жемчужников писал к брату Владимиру: «Отношения Пруткова к «Современнику» возникли от связей твоих и моих. Я помещал в «Современнике» свои стихи и комедии, а ты был знаком с редакцией».
Имя А. К. Толстого уже мелькнуло в пригласительной записке Некрасова. В неопубликованном дневнике Геннади под 1855 годом мы читаем такую запись:
«Вчера, 17 февраля был у Дюссо обед в честь П. В. Анненкова, издателя сочинений Пушкина... Участвовали: Панаев, Некрасов, Дружинин, Авдеев, Михайлов, Арапетов, Майков, Писемский, Жемчужников, граф А. Толстой, Гербель, Боткин, Гаевский, Языков».
Пыпин завершил свои впечатления от обедов у Некрасова и Панаева попыткой объяснить смысл появления на свет Козьмы Пруткова несколько расширенно:
«В это время Дружинин писал в «Современнике» целые шутовские фельетоны под заглавием «Путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам» - для развлечения читателя, да и собственного. В это время создавались творения знаменитого Кузьмы Пруткова, которые также печатались в «Современнике» в особом отделе журнала, и в редакции «Современника» я в первый раз познакомился с одним из главных представителей этого сборного символического псевдонима, Владимиром Жемчужниковым. В то время когда писались творения Кузьмы Пруткова, приятельская компания, которую он собою представлял, отчасти аристократическая, проделывала в Петербурге различные практические шутовства, о которых, если не ошибаюсь, было говорено в литературе по поводу Кузьмы Пруткова. Это не были только простые шалости беззаботных и балованных молодых людей; вместе с тем бывало здесь частью инстинктивное, частью сознательное желание посмеяться в удушливой атмосфере времени. Самые творения Кузьмы Пруткова как бы хотели быть образчиком серьезной, даже глубокомысленной, а также скромной и благонамеренной литературы, которая ничем не нарушала бы строгих требований «негласного комитета».
Так соединяется кружок «друзей Козьмы Пруткова» с большим кругом писателей, группировавшихся вокруг «Современника». Участвовал ли Алексей Толстой в порой нескромных забавах некоторых из них? Вряд ли. Он не ханжа, но в проявлениях своего чувства юмора он никогда не переходил границы, отделяющей иронию от цинизма. Целомудренный по натуре, он даже Мюссе считает безнравственным и грозится, что если найдет экземпляр его произведений на столе Софьи Андреевны, то его «уже не скипидаром обольет, а дегтем».
Не прерывая рассказа о любви Алексея Константиновича, о его литературных связях, напомним, что уже надвинулись грозные события, что мысли нашего героя все больше занимало явление, имя которому - война!
1 Вариант: «На коем фрак». Примечание К. Пруткова