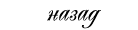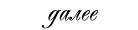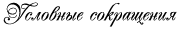Ф.И. ТЮТЧЕВ. Письмо о цензуре в России
Письмо о цензуре в России (перевод)
Пользуюсь вашим любезным дозволением, чтобы представить на суд ваш некоторые суждения, связанные с предметом нашей последней беседы. Конечно, нет никакой необходимости еще раз выражать мое искреннее приятие изложенного вами замысла1 и уверять вас в серьезности моего намерения споспешествовать его осуществлению всеми доступными мне средствами, если возникнет попытка воплотить его в жизнь. Но именно для лучшего достижения этой цели посчитаю своим долгом прежде всего откровенно объяснить вам мой взгляд на вопрос. Разумеется, речь не идет здесь о моих политических убеждениях. Это было бы ребячеством: в наши дни по части политических воззрений все здравомыслящие люди придерживаются приблизительно одинакового мнения; различие заключается лишь в большей или меньшей проницательности при осознании происходящего и оценке должного будущего. Именно в степени истинности таких оценок и надлежало бы прежде всего найти взаимопонимание. И если правда (как вы сказали, дорогой князь), что практический ум в известных обстоятельствах может желать лишь осуществимого по отношению к личностям, то не менее истинно для действительно практического ума и то, что недостойно желать чего-либо вне естественных условий его существования. Но перейдем к делу. Если среди всех прочих есть истина, вполне очевидная и удостоверяемая суровым опытом последних лет, то она несомненно такова: нам было строго доказано, что нельзя чересчур долго и безусловно стеснять и угнетать умы без значительного ущерба для всего общественного организма2.
Кажется, всякое ослабление и заметное умаление умственной жизни в обществе неизбежно оборачивается усилением материальных аппетитов и корыстно эгоистических инстинктов3. Даже сама Власть не может длительно избегать неудобств подобного образа правления. Вокруг сферы ее пребывания образуется пустыня, огромная умственная пустота. И правящая мысль, не находя вне себя ни контроля, ни указания, ни какой-либо точки опоры, в конце концов приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще до того, как она падет по роковому стечению событий4. К счастью, этот суровый урок не пропал даром. Прямодушие и благосклонная натура царствующего Императора позволили понять необходимость ослабления чрезмерной строгости предшествующего правления и дарования умам недостающего им воздуха…5 Итак, говорю это с полным убеждением, тому, кто с тех пор в целом следил за умственной деятельностью, как она выразилась в литературном движении страны, невозможно не поздравить себя с отрадными последствиями этой перемены. Как и всякий другой, я вижу слабые стороны, а подчас и даже отклонения текущей литературы, но нельзя ей по праву отказать в одном, весьма существенном достоинстве: как только ей была предоставлена некоторая свобода слова, она постоянно стремилась по возможности лучше и вернее выражать саму мысль страны. К очень живому осознанию современной действительности и нередко к весьма замечательному таланту в ее изображении она присоединяла не менее горячую заботливость о всех насущных нуждах, о всех интересах, о всех язвах русского общества. Как и сама страна, из предстоящих усовершенствований она была поглощена лишь теми, что возможны, практически осуществимы и ясно указаны, не дозволяя отдать себя в плен утопии, этому исключительно литературному недугу. Если в войне против злоупотреблений литература иногда увлекалась и доходила до очевидных преувеличений6, то, надо заметить к ее чести, она в этом усердии никогда не отделяла в своей мысли интересы Верховной Власти от интересов страны: настолько она прониклась серьезным и честным убеждением, что вести войну против злоупотреблений означает бороться с личными врагами Императора… Мне хорошо известно, что в наше время за подобными внешними проявлениями усердия часто скрываются весьма дурные чувства и таятся далеко не честные намерения; но благодаря опыту, по необходимости приобретаемому людьми нашего возраста, нет ничего легче, чем сразу же распознать эти хитроумные уловки, и такого рода фальшь уже никого не введет в заблуждение.
Можно утверждать, что теперь в России господствуют два, почти всегда тесно связанных друг с другом, чувства: раздражение и отвращение к неутихающим злоупотреблениям и священная вера в чистые, открытые и благосклонные намерения Государя7.
Есть всеобщая убежденность, что никто сильнее Его не страдает от язв России и так решительно не желает их исцеления; но нигде, наверное, она не проявляется столь полно и живо, как среди литераторов, и следует полагать долгом чести использовать любой случай, чтобы громко провозгласить: нет, кажется, сейчас у нас общественного слоя, столь благоговейно преданного Личности Императора.
Подобные оценки (не скрою), вероятно, могут вызвать недоверие в некоторых кругах нашего официального мира. В этом мире всегда существовала какая-то предвзятость, сомнения и нерасположения, что достаточно легко объясняется особенностью его точки зрения8. Встречаются люди, которые разбираются в литературе так же, как полиция больших городов — в охраняемом ею населении, то есть знает лишь происшествия и беспорядки, коим иногда предается наш добрый народ.
Нет, что бы ни говорили, но правительству до сего дня не приходилось раскаиваться в смягчении строгих установлений, тяготивших печать9. Однако все ли сделано в этом вопросе о печати? И по мере того как умственная деятельность становится более свободной, а литературное движение развивается, не ощущается ли с каждым днем настоятельнее необходимость и полезность высшего руководства печатью? Одна цензура, как бы она ни действовала, далеко не удовлетворяет требованиям создавшегося положения вещей. Цензура служит ограничением, а не руководством. А у нас в литературе, как и во всем остальном, речь должна идти, скорее, не о подавлении, а о направлении. Мощное, умное, уверенное в своих силах направление — вот кричащее требование страны и лозунг всего нашего современного положения10.
Часто жалуются на дух непокорности и строптивости, отличающий людей нового поколения. В таком обвинении есть значительное недоразумение. Вполне очевидно, что ни в какую другую эпоху столько энергичных умов не оставалось не у дел, тяготясь навязанным им бездействием. Но эти же самые умы, среди коих рекрутируются противники Власти, весьма часто расположены к союзу с ней, как только она изъявит готовность возглавить их и привлечь их к своей активной и решительной деятельности. Именно эта истина, подтвержденная опытом и наконец-то признанная, во многом способствовала, со времени последних революционных кризисов в различных странах Европы, заметному изменению отношений Власти и печати. И, дорогой князь, здесь я позволю себе привести в поддержку моих слов свидетельство ваших собственных воспоминаний.
Вы, как и я, знали Германию до 1848 года и должны помнить, каково было тогда отношение печати к немецким правительствам, сколько желчи и неприязни содержалось в ее оценках их деятельности, сколько беспокойств и забот она им причиняла.
И как же произошло, что ныне это враждебное расположение большей частью исчезло и сменилось совсем иным?
Сегодня те же самые правительства, которые смотрели на печать как на неизбежное зло и вынужденно, хотя и с ненавистью, принимали ее, стали искать в ней вспомогательную силу и использовать ее как инструмент для решения собственных задач. Я привожу этот пример лишь для того, чтобы доказать, как в уже достаточно пораженных революцией странах умное и энергичное руководство постоянно находит умы, готовые признать его и следовать за ним. Впрочем, я не менее многих ненавижу, когда речь заходит о наших интересах, все эти пресловутые сравнения с происходящим за границей: почти всегда лишь наполовину понятые, они нам принесли слишком много вреда11, чтобы склонить меня ссылаться на их авторитет.
У нас, слава Богу, совсем другие инстинкты и требования, нуждающиеся в удовлетворении; наши убеждения менее испорчены и более бескорыстны, и они могли бы отозваться на призыв Власти.
В самом деле, несмотря на настигающие нас недуги и калечащие пороки, в наших душах еще сохраняются (нельзя не повторять это неустанно) сокровища разумной доброй воли и самоотверженного деятельного духа, которые только и ожидают сочувствующего руководства, способного их принять и признать. Одним словом, если правда, о чем часто говорят, будто Государство так же много печется о душах, как и Церковь, то нигде эта истина не является столь очевидной, нежели в России, и нигде (нельзя не признаться) это государственное призвание не могло быть столь легко исполнимым. Вот почему у нас встретили бы с единодушным одобрением и удовлетворением намерение Власти, в ее отношениях с печатью, взять на себя серьезно и честно понимаемое управление общественным сознанием и отстаивать свое право руководить умами.
Но, дорогой князь, сейчас я пишу не полуофициальную статью, а доверительное и откровенное письмо, в котором оговорки и недомолвки выглядели бы смешно и неуместно.
Посему я постараюсь точнее объяснить, на каких условиях, по моему мнению, Власть могла бы считать себя вправе воздействовать таким образом на умы.
Прежде всего необходимо рассмотреть положение страны в настоящее время, когда она озабочена весьма тягостными, но законными духовными интересами, находится между прошлым, богатым поучительными уроками (это так), и вместе с тем обескураживающими опытами и чреватым проблемами будущим.
Затем следовало бы во взгляде на нашу страну решиться признать то, что родители, видящие вырастающих на их глазах детей, с таким трудом осознают: наступает зрелый возраст, когда мысль тоже взрослеет и требует к себе соответствующего отношения. А для завоевания нравственного влияния на достигшие зрелости умы, без чего нельзя помышлять о возможности руководить ими, следовало бы прежде всего вселить в них уверенность, что по всем значительным вопросам, заботящим и волнующим сейчас страну, в высших сферах Власти имеются если и не совсем готовые решения, то, по крайней мере, твердые убеждения и целостное воззрение, связное во всех своих частях и последовательное.
Конечно, речь идет не о дозволении публике вмешиваться в совещания Государственного совета или определять совместно с печатью правительственные меры. Существенная задача заключается в том, чтобы Власть сама в достаточной степени удостоверилась в своих идеях, прониклась собственными убеждениями12, испытала потребность распространять их влияние и внедрять как элемент возрождения, как новую жизнь в сердцевину народного сознания. Власти надо понять как весьма существенную задачу, что в условиях тяготящих нас непосильных трудностей правительство как таковое ничего не сможет сделать ни во внутренней, ни во внешней политике, ни для своего блага, ни для нашего без сокровенной связи с самой душой страны, без полного и повсеместного пробуждения всех ее нравственных и умственных сил, без их искреннего и единодушного содействия общему делу.
Одним словом, следовало бы всем — и обществу, и правительству — постоянно говорить и повторять, что судьбу России можно сравнить с севшим на мель кораблем, который никакими усилиями команды нельзя сдвинуть с места, и только приливная волна народной жизни способна снять его с мели и пустить вплавь13.
По моему мнению, вот во имя такого начала и чувства Власть могла бы теперь овладеть сердцами и умами, взять их, так сказать, в свои руки и вести куда ей угодно. С этим знаменем они пошли бы за ней всюду.
Излишне говорить, что я совсем не стремлюсь для этого превратить правительство в проповедника, возвести его на кафедру для поучений перед безмолвным собранием. Ему следовало бы внести свой дух, а не свое слово в ту честную пропаганду, которая осуществлялась бы под его покровительством.
И поскольку первым условием успеха при желании убедить людей является умение привлечь внимание слушателей к собственным словам, то, разумеется, для успеха этой спасительной пропаганды необходимо не только не стеснять свободу прений, но, напротив, делать их настолько серьезными и открытыми, насколько позволяют складывающиеся в стране обстоятельства14.
Ибо надо ли в тысячный раз настаивать на факте, очевидность которого бросается в глаза: в наши дни везде, где свободы прений нет в достаточной мере, нельзя, совсем невозможно достичь чего-либо ни в нравственном, ни в умственном отношении.
Я знаю, как трудно (если не сказать невероятно) в подобных вопросах с должной степенью точности выразить свою мысль. Например, как определить, что следует разуметь под достаточной мерой свободы прений? Эта мера, по сути подвижная и произвольная, весьма часто может определяться лишь самыми сокровенными и индивидуальными сторонами наших убеждений, и надлежало бы, так сказать, знать всего человека, чтобы верно понимать смысл, вкладываемый им в слова при обсуждении таких проблем. Что касается меня, то я, как и многие, более тридцати лет следил за этим неразрешимым вопросом о печати15 во всех превратностях его изменчивой судьбы. И вы меня обяжете, дорогой князь, если поверите, что после столь длительного изучения и наблюдения сей вопрос не мог бы не стать для меня не чем иным, как предметом самой беспристрастной и самой холодной оценки. Поэтому у меня нет ни предвзятости, ни предубеждений против всего того, что к нему относится; я даже не испытываю особой враждебности к цензуре, хотя она в последние годы тяготила Россию как истинное общественное бедствие16. Полностью признавая ее своевременность и относительную пользу, я в основном упрекаю ее за то, что в настоящее время она глубоко недостаточна для удовлетворения наших действительных нужд и подлинных интересов. Впрочем, вопрос не в том, он не заключается в мертвой букве уставов и предписаний, обретающих ценность лишь от оживляющего их духа17. Весь вопрос состоит в том, как само правительство, в собственном сознании, рассматривает свои отношения с печатью; он, добавим, заключается в большей или меньшей доле законности, признаваемой за правом индивидуальной мысли.
А теперь, чтобы оставить наконец в стороне общие соображения и ближе коснуться нынешнего положения дел, позвольте мне, дорогой князь, сказать вам со всей откровенностью сугубо конфиденциального письма, что до тех пор, пока наше правительство существенно не изменит всего склада своих привычных мыслей на отношение к нему печати, так сказать не порвет с ним, у нас невозможно предпринять ничего серьезного и действительно полезного с надеждой на какой-то успех; и ожидание приобрести влияние на умы с помощью таким образом управляемой печати всегда оставалось бы лишь заблуждением.
А между тем надо бы иметь мужество взглянуть на вопрос в его подлинном виде, созданном обстоятельствами. Невозможно, чтобы правительство всерьез не озаботилось бы явлением, возникшим несколько лет назад и приобретающим такие масштабы, значение и последствия которых ныне никто не смог бы предвидеть. Вы понимаете, дорогой князь, что я разумею учреждение русских изданий за границей вне всякого контроля нашего правительства18. Факт этот, бесспорно, важен, очень важен и заслуживает самого пристального внимания. Бесполезно пытаться скрывать растущий успех сей литературной пропаганды19. Нам известно, что сейчас Россия наводнена изданиями такого рода, их жадно ищут, они с необыкновенной легкостью переходят из рук в руки и уже проникли если и не в неграмотные народные массы, то, по крайней мере, в достаточно низкие слои общества. С другой стороны, надо обязательно признаться, что, не прибегая к положительно притесняющим и тираническим мерам, весьма трудно на самом деле воспрепятствовать как ввозу и сбыту этих изданий, так и вывозу за границу предназначенных для печати рукописей. Ну что же, наберемся смелости и дадим себе отчет в истинном значении и важности рассматриваемого факта; это просто-напросто отмена цензуры, но ее отмена в пользу вредного и враждебного влияния; и, чтобы быть в состоянии бороться с ним, постараемся понять, что составляет его силу и приносит ему успех.
До сих пор, когда речь заходит о русской печати за границей, имеется в виду, как правило, лишь издание Герцена20. Какое значение имеет Герцен для России? Кто его читает? Случайно ли его социалистические утопии и революционные происки привлекают к себе внимание? Но среди читающих его мало-мальски думающих людей найдутся ли двое из ста, кто вполне серьезно отнесся бы к его идеям и не счел бы их проявлением более или менее бессознательной мономании, им овладевшей? На днях меня даже уверяли, что люди, заинтересованные в успехе и сохранении влияния издания Герцена, весьма основательно убеждали его подальше отбросить весь революционный хлам21. Не доказывает ли это, что его газета представляет для России нечто совершенно иное, нежели проповедуемые им идеи. И как же скрыть от себя, что его сила и влияние определяются в нашем представлении свободными прениями, пусть и на предосудительных основаниях (это так), на основаниях ненависти и пристрастия, но тем не менее достаточно свободных (к чему отрицать?) для включения в состязание и других мнений, более продуманных и умеренных, а отчасти и вовсе разумных. И теперь, когда мы удостоверились, где кроется секрет его силы и влияния, нам не составит труда определить свойства того оружия, которое необходимо для победы над ним. Очевидно, что газета, готовая возложить на себя подобную миссию, могла бы рассчитывать на какой-то успех лишь в условиях, хотя бы немного сходных с условиями противника22. Вам, дорогой князь, с вашей благожелательной мудростью, решать, как и в какой мере осуществимы подобные условия в нынешнем положении, лучше меня вам известном. Разумеется, издатели не испытывали бы недостатка ни в талантах, ни в усердии, ни в искренних убеждениях. Но, откликаясь на обращенный к ним призыв, они прежде всего хотели бы увериться, что присоединяются не к полицейскому труду, а к делу совести, и посему сочли бы себя вправе требовать всей необходимой свободы, которую предполагает по-настоящему серьезная и плодотворная полемика.
Соблаговолите взвесить, дорогой князь, захотят ли влиятельные лица, которые возглавили бы учреждение такого издания и поддерживали бы его существование, предоставить ему необходимую степень свободы; не внушат ли, возможно, они себе, что из признательности за оказанное покровительство и в знак почтительной благодарности за свое привилегированное положение это издание, которое могло бы отчасти рассматриваться ими как их собственное, должно соблюдать еще большую сдержанность и осторожность, чем все другие в стране.
Но письмо слишком растянулось, и я спешу его закончить. Позвольте только, дорогой князь, добавить в заключение несколько слов, коротко выражающих всю мою мысль. Осуществление замысла, который вы любезно мне сообщили, кажется хотя и не легким, но, по крайней мере, возможным, если бы все мнения, все честные и просвещенные убеждения имели право открыто и свободно составить мыслящее ополчение, преданное личным устремлениям Императора.
Примите уверения и проч.
Ноябрь, 1857
КОММЕНТАРИИ:
Автограф неизвестен.
Списки — РГБ. Ф. 308. К. 1 Ед. хр. 12. Л. 1–9, рукой Эрн. Ф. Тютчевой; писарская копия — в архиве С. Д. Полторацкого (Ф. 233. К. 11. Ед. хр. 72. Л. 1-14), содержит предваряющую ее запись: «Pia Desideria (Благие пожелания — лат.). Novembre 1857»; далее — справка: «писано Федором Иван., Действ. Ст. Сов., в ноябре 1857. Предоставлено им Министру Иностранных Дел, Князю Александру Михайловичу Горчакову. Читано Государем».
Первая публикация — РА. 1873. № 4. С. 607–620 и 620–632, на фр. и рус. яз. под заглавием «О цензуре в России. Письмо Ф. И. Тютчева одному из членов государственного совета». Публикация легла в основу Изд. СПб., 1886. С. 488–501 и 572–584; Изд. 1900. С. 519–532 и 603–615; Изд. Маркса. С. 324–332 и 364–369; стала источником для репринтного издания фр. и рус. текстов — Тютчев Ф. И. Политические статьи. С. 78–91 и 159–170; публикаций в рус. переводе — Тютчев Ф. Русская звезда. С. 301–310; другого перевода — ПСС в стихах и прозе. С. 424–431.
&##8195; Печатается по Изд. СПб., 1886. С. 572–584 (на фр. яз.).
Среди наиболее заметных разночтений между публикациями в РА и в Изд. СПб., 1886 можно выделить следующие (первыми указываются цитаты из РА): «l’état a charge d’âmes aussi bien que l’église» — «l’Etat a charge d’âmes aussi bien que l’Eglise» (12-й абз.); «pouvoir» — «Pouvoir» (16-й абз.).
«Письмо о цензуре в России» занимает особое место среди разнородных официальных, полуофициальных и анонимных записок, писем, статей, получивших широкое распространение с началом царствования Александра II (в ряде случаев они были прямо обращены к царю), критиковавших сложившееся положение вещей в общественном устройстве и государственном управлении и обсуждавших различные вопросы их реформирования. «Историко-политические письма» М. П. Погодина, «Дума русского во второй половине 1855 г.» П. А. Валуева, «О внутреннем состоянии России» К. С. Аксакова, «О значении русского дворянства и положении, какое оно должно занимать на поприще государственном» Н. А. Безобразова, «Восточный вопрос с русской точки зрения», «Современные задачи русской жизни», «Об аристократии, в особенности русской», «Об освобождении крестьян в России» — эти и подобные им произведения «рукописной литературы», принадлежавшие перу Б. Н. Чичерина, Н. А. Мельгунова, А. И. Кошелева, Ю. Ф. Самарина и других представителей разных идейных течений, в списках расходились по стране. Встречались и такие, в которых рассматривались возможные изменения в области цензуры и печати, например, «Записка о письменной литературе», отражавшая взгляды К. Д. Кавелина, братьев Милютиных и других либералов, или подготовленное П. А. Вяземским для императора «Обозрение современной литературы», утверждавшее полезность для страны критического направления в журналистике и одновременно — необходимость разумной правительственной опеки над «благонамеренной гласностью».
В хаотическом брожении умов и столкновении различных проектов обновления социальной жизни Тютчева можно отнести к представителям консервативного прогресса, ратовавшим за эволюционные, а не революционные изменения. Не сомневаясь в христианских основах и нравственных началах самодержавия, а, напротив, стремясь укрепить их, он полагал, что «пошлый правительственный материализм», «убийственная мономания», боязнь диалога с союзниками, недоверие к народу, стремление в идейной борьбе опираться лишь на грубую силу подтачивали открытую и незамутненную мощь христианской империи, давали козыри ее противникам, служили не альтернативой, а пособничеством «революционному материализму». Среди подобных следствий «правительственного материализма» поэт особо выделял произвол по отношению к печати, жертвами которого зачастую становились не столько либерально-демократические, сколько славянофильские издания. В русле расширения, по инициативе правительства, гласности «в пределах благоразумной осторожности» и появления массы новых изданий единомышленники Тютчева открывали во второй половине 1850-х гг. свои журналы и газеты («Русская беседа», «Молва», «Сельское благоустройство», «Парус»), которые испытывали цензурный гнет и в конечном итоге закрывались. Славянофилы признавали самодержавие одним из главных исконных устоев русской жизни, укреплять который способна свобода совести и слова, преодолевающая убийственный для него чиновничий произвол и казенную рутину. Однако самовластная бюрократия оказывалась сильнее, и позднее, 3 апреля 1870 г., Тютчев писал дочери Анне: «Намедни мне пришлось участвовать в почти официальном споре по вопросу о печати, и там было высказано — и высказано представителем власти — утверждение, имеющее для некоторых значение аксиомы, — а именно, что свободная печать невозможна при самодержавии, на что я ответил, что там, где самодержавие принадлежит лишь государю, ничто не может быть более совместимо, но что действительно печать, — так же, как и все остальное, — невозможна там, где каждый чиновник чувствует себя самодержцем» (Изд. 1984. С. 342).
Для понимания внутренней логики «Письма…» важно еще иметь в виду происходивший во второй половине XIX в. своеобразный поиск адекватного отношения к нарождавшимся в России феноменам общественного мнения, гласности, свободы журналистики (см. об этом: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892; Энгельгардт Н. Очерки истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703–1903). СПб., 1904; Лемке М. К. Очерки по истории цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904; Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати: 60-70-е годы XIX в. Л., 1989; Пирожкова Т. Ф. Славянофильская журналистика. М., 1997; Жирков Г. В. История цензуры в России XIX–XX вв. М., 2001 и др.).
В осмыслении взаимоотношений государства и общества через печатное слово Тютчев своеобразно солидаризировался с такими, например, правительственными деятелями, как в 1860-е гг. П. А. Валуев или позднее К. П. Победоносцев. До известной степени и в фундаментальных вопросах они являлись как бы единомышленниками поэта по прогрессивному консерватизму (хотя он нередко и резко критиковал конкретные действия П. А. Валуева) и рассматривали прессу как неоспоримую силу, становящуюся универсальной формой цивилизации и действующую в условиях падения высших идеалов, исторических авторитетов и, говоря словами самого поэта, «самовластия человеческого я» (при этом сознательно или бессознательно, но закономерно превращающуюся в инструмент подобных процессов). В документах разных лет, в том числе и в записке «О внутреннем состоянии России», П. А. Валуев подчеркивал: «При самом даже поверхностном взгляде на современное направление общества нельзя не заметить, что главный характер эпохи заключается в стремлении к уничтожению всякого авторитета. Все, что доселе составляло предмет уважения нации: вера, власть, заслуга, отличие, возраст, преимущества, — все попирается: на все указывается как на предметы, отжившие свое время ‹…› Наша пресса вся целиком в оппозиции к правительству. Органы прессы являются или открытыми и непримиримыми врагами, или очень слабыми и недоброжелательными друзьями, которые идут дальше целей, какие ставит себе правительство. Его собственные органы неспособны или парализованы» (Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862. С. 125; Исторический архив. 1958. № 1. С. 142).
В такой парадоксально складывавшейся для самодержавного государства ситуации оппозиционные либеральные, демократические, революционные, легальные и нелегальные издания в России и за рубежом получали и известные моральные преимущества, ибо сосредоточивались на критике реальных недостатков и злоупотреблений существовавшего строя, хотя в своей положительной программе исходили из идеологической риторики невнятного гуманизма и прогресса, утопически уповавшей на внешние общественные изменения, что приводило впоследствии (без учета подчеркнутого Тютчевым антропологического фактора, несовершенной и греховной природы человека) к кровавым революциям, гражданским войнам, упрощению и примитивизации отношений между людьми в цивилизационном процессе. Такая критика при такой «положительной» программе предполагала соответствующий подбор известий и фактов, их сокращение, поворачивание и освещение с тех сторон, которые требовались не полнотой истины, а политическими, идейными, материальными, финансовыми, личными интересами. «Сочиняя» на этой основе общественное мнение, пресса затем «отражает» и проповедует его, формируя замкнутый круг (оторванный от многообразия социальных «голосов») и оказывая на людей огромное влияние без должной легитимности (в тютчевском понимании этого слова). Отсутствие в газетной деятельности, манипулирующей человеком, достаточных нравственных оснований и подлинной легитимности подчеркивал Н. В. Гоголь: «Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством!» (Гоголь. С. 190). К. П. Победоносцев, вопрошая, кто дал права и полномочия той или иной газете от имени целого народа, общества и государства возносить или ниспровергать, провозглашать новую политику или разрушать исторические ценности, замечал: «Никто не хочет вдуматься в этот совершенно законный вопрос и дознаться в нем до истины; но все кричат о так называемой свободе печати, как о первом и главнейшем основании общественного благоустройства ‹…› Нельзя не признать с чувством некоторого страха, что в ежедневной печати скопляется какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая над человечеством» (Победоносцев. С. 125, 132). Эта сила ссылается на читательский «спрос», навязываемый ее же ретивым «предложением», которое превращается из свободы в деспотизм печатного слова, уравнивает «всякие углы и отличия индивидуального мышления», отучает от самостоятельного мнения, в массе передаваемых сведений становится источником мнимого знания и образования, рассчитывает с помощью рыночных талантов и привлекательно-шокирующей информации «на гешефт» и на удовлетворение «низших инстинктов», а не «на одушевление на добро». В результате «никакое издание, основанное на твердых нравственных началах и рассчитанное на здравые инстинкты массы, — не в силах будет состязаться с нею» (там же. С. 129).
Тютчев ясно представлял себе изначальную двойственность и слабую легитимность печатного слова, его внутреннюю оппозиционность и потенциальную разрушительность (эту роль «типографического снаряда» подчеркивал и А. С. Пушкин), склонность опираться на не лучшие свойства человеческой природы и т. п. Поэтому необходимость «ограждать общество от действительно вредного и предосудительного» не вызывала у него как у цензора Министерства иностранных дел с 1848 г. и председателя Комитета цензуры иностранной с 1858 г. никаких сомнений (о деятельности поэта на этих должностях см.: Чулков Г. Тютчев и Аксаков в борьбе с цензурою // Мурановский сб. Мураново, 1928. Вып. 1. С. 7–29; Бриксман М. Тютчев в Комитете ценсуры иностранной // ЛН. М., 1935. Т. 19–21. С. 565–568; Жирков Г. В. Тютчев о цензуре // Невский наблюдатель. 1997. № 1. С. 44–45; Жирков Г. В. Век официальной цензуры // Очерки русской культуры XIX века. Власть и культура. М., 2000. С. 227–233). В его представлении такая деятельность может приносить действительную пользу, а не вред, если возглавляется и исполняется по-настоящему многознающими, мудрыми, честными, ответственными людьми, сообразующимися не с пристрастиями и фобиями вышестоящего начальства, а с Истиной и Делом, не с буквой устаревших инструкций, а «с разумом закона, требованиями века и общества». И такие цензоры, помимо Тютчева, стали появляться в лице Н. И. Пирогова, И. А. Гончарова, В. Н. Бекетова, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского… (О себе и таких цензорах он писал в стихах, что, «стоя на часах у мысли», они «не арестантский, а почетный держали караул при ней!».) Хотя в целом господствовали другие, и в одном из писем летом 1854 г. поэт замечал: «Недавно у меня были мелкие неприятности в министерстве, все по поводу этой злосчастной цензуры. Конечно, в этом не было ничего особенно важного… На развалинах мира, который обрушится под тяжестью их глупостей, они, по роковому закону, останутся жить и умирать в постоянной безнаказанности их идиотизма. Что за отродье, Боже мой! Однако, чтобы быть вполне искренним, я должен сознаться, что эта беспримерная, эта ни с чем не сравнимая недалекость не опечаливает меня за судьбу самого дела настолько, насколько, казалось, должна была бы опечалить. Когда видишь, насколько все эти люди лишены всяких мыслей и всякой сообразительности, следовательно и всякой самодеятельности, — становится невозможным приписывать им малейшее участие в чем-либо; в них можно видеть только безвольные колесики, приводимые в движение невидимой рукой» (РА. 1899. № 2. С. 275). За шесть лет до своей кончины Тютчев был вынужден констатировать (несмотря на благие намерения и реформаторские усилия правительства): «Для совершенно честного, совершенно искреннего слова в печати требуется совершенно честное и искреннее законодательство по делу печати, а не тот лицемерно-насильственный произвол, который теперь заведывает у нас этим делом» (цит. по: Чулков Г. Тютчев и Аксаков в борьбе с цензурой. С. 19). По наблюдению поэта, этот произвол и тяжести цензорских «глупостей» сковывали силы легитимной и «разумно-честной печати», стремившейся искренне и свободно, верой и правдой служить (а не прислуживаться, тем самым дискредитируя ее) «христианской империи», терявшей своих талантливых сотрудников и не имевшей возможности свободно состязаться с либерально-демократическими и революционными изданиями на «твердых нравственных началах» и на гораздо более трудных, нежели критически-разоблачительные, но единственно плодотворных, говоря его словами, «положительно разумных» основаниях.
Различным вопросам функционирования свободного слова в печати, связанного с принципиальными общественными и государственными задачами бескорыстным делом, проникновенной сознательностью, нравственной ответственностью и вменяемостью, и посвящено «Письмо о цензуре в России». И. С. Аксаков отмечает: «В 1857 году Тютчев написал, в виде письма к князю Горчакову (ныне канцлеру) статью или записку о цензуре, которая тогда ходила в рукописных списках и, может быть, не мало содействовала более разумному и свободному взгляду на значение печатного слова в наших правительственных сферах» (Биогр. С. 38–39). С 1856 г. А. М. Горчаков (1798–1883) занимал должность министра иностранных дел, сумел значительно смягчить отрицательные последствия Крымской войны и заключившего ее Парижского трактата, вывести Россию из политической изоляции и усилить ее влияние на Балканах. По словам Тютчева, при новом министре, сменившем «труса беспримерного» К. В. Нессельроде, «поистине впервые действия русской дипломатии затронули национальные струны души» и продемонстрировали «полный достоинства и твердости» тон. С конца 1850-х гг. поэт тесно сблизился с А. М. Горчаковым и с самых разных сторон помогал ему в его деятельности (см. его письма министру и коммент. К. В. Пигарева в статье «Ф. И. Тютчев и проблемы внешней политики царской России» (ЛН. 1935. Т. 19–21. С. 199–235); см. также: Кожинов В. Тютчев. М., 1988. С. 384–406). При проведении национально ориентированной внешней политики А. М. Горчаков придавал большое значение формированию общественного мнения, что отразилось в одном из нескольких адресованных ему стихотворных посланий поэта в 1864 г.:
Вам выпало призванье роковое,
Но тот, кто призвал вас, и соблюдет.
Все лучшее в России, все живое
Глядит на вас, и верит вам, и ждет.
Обманутой, обиженной России
Вы честь спасли, — и выше нет заслуг;
Днесь подвиги вам предстоят иные:
Отстойте мысль ее, спасите дух…
(«Князю Горчакову»).
Как предполагает И. С. Аксаков, стихотворение написано «по поводу грозивших Русской печати новых стеснений» (Биогр. С. 281).
Тютчев не случайно обращается с таким призывом к А. М. Горчакову, который семью годами ранее приглашал его возглавить новое издание, соответствующее новой политике. 27 октября / 8 ноября 1857 г. дочь поэта Дарья сообщала сестре Екатерине, что кн. А. М. Горчаков предложил их отцу «быть редактором газеты или нечто в этом роде. Однако папá предвидит множество препятствий на этом пути и в настоящее время составляет записку, которую Горчаков должен представить государю; в ней он показывает все трудности дела» (ЛН-2. С. 293). Об идеологических, административных, организационных, цензурных, психологических, нравственных трудностях воплощения подобного проекта и ведет речь поэт в своем «Письме…», которое в ноябре 1857 г. стало распространяться в Москве. 20 ноября М. П. Погодин записал в дневнике: «Записка Тютчева о цензуре» (цит. по: ЛН-2. С. 14). Вероятно, М. П. Погодин одним из первых познакомился с «запиской», поскольку ранее находил согласие с их автором в обсуждении сходных вопросов в похожем жанре. Поэт полностью одобрил «историко-политическое» письмо М. П. Погодина, где в тютчевских словах и интонациях обрисованы губительные последствия для государственной и общественной жизни отсутствия нормальных условий для духовной деятельности: «Ум притуплен, воля ослабела, дух упал, невежество распространилось, подлость взяла везде верх, слово закоснело, мысль остановилась, люди обмелели, страсти самые низкие выступили наружу, и жалкая посредственность, пошлость, бездарность взяла в свои руки по всем ведомствам бразды управления» (Погодин. С. 267).
Два «историко-политических» письма М. П. Погодин прямо адресовал «К Ф. И. Тютчеву», рассматривая проблемы заключения мира после Крымской войны. Еще летом 1855 г. он писал П. А. Вяземскому: «…с Тютчевым толковали мы много об издании политических статей для вразумления публики» (СН. 1901. Кн. 4. С. 50). Летом же 1857 г. собеседники активно обсуждали внешнеполитическую деятельность нового министра иностранных дел, которую, советуясь с Тютчевым и вразумляя публику, осенью этого года М. П. Погодин высоко оценивал в приготовленной для «Journal du Nord» («Северной газеты») статье. Подобные факты объясняют, почему М. П. Погодин получил в числе первых список публикуемого «Письма…», которое находило отклик в обществе, а не у официальных кругов. Хотя управляющий III Отделением А. Е. Тимашев в «Замечаниях при чтении записки г. Тютчева о полуофициальном журнале, который он полагал бы полезным издавать в России с целью руководить мнениями» в целом одобрительно отнесся к мыслям автора и даже нашел ряд из них заслуживающими полного внимания. Соглашаясь с мнением поэта, что «цензура служит пределом, а не руководством», он тем не менее подчеркивает необходимость идейного руководства литературой, «ибо она теперь становится на такую дорогу, по которой мир читающий будет доведен до страшных по своим последствиям заблуждений» (цит. по: Порох И. В. Из истории борьбы царизма против Герцена. (Попытка создания анти-«Колокола» в 1857–1859 гг.) // Из истории общественной мысли и общественного движения в России. Саратов, 1964. С. 128). А. Е. Тимашев в докладе начальнику III Отделения В. А. Долгорукову отмечает также интересные детали, относящиеся к проекту А. М. Горчакова: «…в бытность вашу за границей вам с кн‹язем› Ал‹ександром› М‹ихайловичем› Горчаковым пришла мысль об издании официального органа, одновременно с этим в Петергофе я в разговоре с ‹…› вел‹иким› кн‹язем› Константином Николаевичем развил ту же мысль, Баранов и Карцев обрабатывают, как я узнал на днях, нечто подобное по военной газете, и наконец, г. Зотов является с таким же предложением» (там же. С. 129).
Q#8195;Тем не менее, если судить по письму Н. И. Тютчева Эрн. Ф. Тютчевой от 6/18 декабря 1857 г., должного внимания к планам поэта было явно недостаточно: «Рукопись моего брата произвела здесь то впечатление, которое и должна была произвести. К сожалению, все это ни к чему не приводит и служит только подтверждением притчи о жемчужинах, брошенных свиньям…» (ЛН-2. С. 293).
«Письмо…» увидело свет еще при жизни автора в РА за 1873 г. После прочтения публикации поэт в письме к дочери Екатерине замечал: «Не знаю, какое впечатление произвела эта статья в Москве, здесь она вызвала лишь раздражение, ибо здесь сейчас подготавливаются законы, диаметрально противоположные тем, о которых говорится в этой записке, но, когда используешь редкую возможность высказаться, мнение оппонентов тебя не очень интересует» (ЛН-1. С. 480). Тютчев подразумевает готовившийся новый закон о печати (принят 16 июня 1873 г.), вносивший дополнительные ограничения по отношению к периодическим изданиям и предоставлявший министру внутренних дел право приостанавливать те газеты и журналы, в которых неподобающим образом обсуждаются «неудобные» вопросы. За два месяца до кончины, будучи не в состоянии писать сам, он продиктовал следующие строки: «Перечитывая мою записку, которая и в настоящий миг трепещет современным интересом, я убедился, что самая бесполезная вещь на сем свете быть правым. Через 30 лет все, конечно, будут думать об этом предмете то же, что я тогда думал, но зло будет уже сделано, и, вероятно, зло непоправимое. Мне любопытно бы видеть впечатление, которое произведет в правительственных сферах обнародование этой записки… Но как простодушно-глупо с моей стороны озабочиваться тем, чтó не имеет уже никакого живого отношения ко мне! Мне следовало бы смотреть на себя как на зрителя, которому, после опущения занавеса, ничего другого не остается, как подобрать свои вещи и направиться к двери…» (цит. по: Биогр. С. 313).
Публикуя «Письмо…», редактор РА П. И. Бартенев отмечал, что печатает «записку» Тютчева «как произведение, знаменующее собою важную минуту в истории русского умственного развития» (РА. 1873. № 4. С. 607).
1…изложенного вами замысла… — Подразумевается предложение А. М. Горчакова Тютчеву «быть редактором газеты или нечто в этом роде», о чем речь шла выше.
2…нельзя чересчур долго и безусловно стеснять и угнетать умы без значительного ущерба для всего общественного организма. — Тютчев формулирует здесь на опыте господства жесткой цензуры в последекабристскую эпоху один из непреложных, но «невидимых» законов, которые в нравственном мире мысли так же действенны, как и физические в материальном мире природы. По его представлению, жизнеспособность «общественного организма» православной державы как высшей формы государственного правления основывается на воплощаемой чистоте и высоте ее религиозно-этических принципов, без чего «вещественная сила» власти «обессоливается» и обессиливается и не может, несмотря на внешнюю мощь, свободно и победно конкурировать с доводами серьезных и многочисленных противников. Более того, происходит своеобразная «путаница», и нравственно не обеспеченные «стеснения» и механические запреты создают эффект «запретного плода», в результате которого низкие по реальной, а не декларируемой сути и ценности идеи получают не свойственные им значение и популярность. «Всякое вмешательство Власти в дело мысли, — подчеркивает Тютчев, — не разрешает, а затягивает узел, что будто бы пораженное ею ложное учение — тотчас же, под ее ударами, изменяет, т‹ак› с‹казать›, свою сущность и вместо своего специфического содержания приобретает вес, силу и достоинство угнетенной мысли» (ЛН-1. С. 264–265). К тому же, замечает он в письме к И. С. Аксакову, под покровом ложного усердия вырастает порода «выродков человеческой мысли, которыми все более и более наполняется земля Русская, как каким-то газом, выведенным на божий свет животворной теплотой полицейского начала» (там же. С. 263). Ср. сходную убежденность единомышленника Тютчева Ю. Ф. Самарина (выраженную им в предисловии ко второму тому Собрания сочинений А. С. Хомякова) в двусмысленной и коварной роли внешних запретов небезупречной в нравственном отношении власти и соответственно духовной стесненности, когда «свобода принимает характер контрабанды, а общество, лишаясь естественно всех благих последствий обсуждения мнений, колеблющих убеждения и мятущих совести, добровольно подвергается всем дурным» (Хомяков 1900. Т. 2. С. II). Сам Тютчев на посту председателя Комитета цензуры иностранной стремился не лишать то или иное сочинение его специфического содержания и не привносить в него достоинство угнетенной мысли. Одним из многочисленных примеров тому может служить подписанный им отчет Комитета от 27 января 1871 г., где высказывается отношение к идеям Дарвина: «…гораздо рациональнее предоставить делу критики опровергать ошибочность теории автора», нежели ставить преграды на пути ознакомления с нею, уже получившей «всемирную значимость». Общую логику Тютчева в необходимости свободного и талантливого противовеса нигилистическим тенденциям может пояснить следующий вывод М. Н. Каткова: «Одних запретительных мер недостаточно для ограждения умов от несвойственных влияний; необходимо возбудить в умах положительную силу, которая противодействовала бы всему ей несродному. К сожалению, мы в этом отношении вооружены недостаточно» (Исторические сведения о цензуре в России. С. 80).
3…умаление умственной жизни в обществе неизбежно оборачивается усилением материальных аппетитов и корыстно эгоистических инстинктов. — Имеется в виду один из важных духовно-психологических законов, к которым Тютчев, подобно Ф. М. Достоевскому, всегда был чуток и учитывал их при осмыслении историко-политических вопросов. Этот закон проявился в последующем с особенной очевидностью.
4И правящая мысль, не находя вне себя ни контроля, ни указания, ни какой-либо точки опоры, в конце концов приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще до того, как она падет по роковому стечению событий. — Под влиянием таких чиновников, как Тютчев, правящая мысль частично сама осознавала «благонамеренную гласность» как «союзницу и помощницу» в деле предотвращения подобного исхода государственного контроля за различными беспорядками и злоупотреблениями, что отразилось в правительственном циркуляре от 3 апреля 1859 г. Годом ранее министр народного просвещения А. С. Норов подчеркивал в записке к императору другие аспекты в преодолении разрыва между властью, обремененной новыми вопросами государственного строительства, хозяйства и законодательства, и подданными, на которых направлены предпринимаемые реформы: «Отчуждение общества от знакомства по крайней мере в общих понятиях с сими важными и жизненными вопросами, равнодушие к их действиям и пользе были бы явлением прискорбным. Вместе с тем, оно лишило бы правительство надежнейшего пособия, нравственной силы, которою оно может действовать на общество, на его доверие, убеждение, сочувствие и единомыслие…» (там же. С. 104).
5Прямодушие и благосклонная натура царствующего Императора позволили понять необходимость ослабления чрезмерной строгости предшествующего правления и дарования умам недостающего им воздуха… — Положение печатного слова при Александре II, взошедшем на престол 19 февраля 1855 г., облегчилось уже в первые годы его царствования (хотя крупные юридические изменения произошли лишь в 1865 г. при введении так называемых временных правил, отменявших предварительную цензуру). Фактическое положение вещей в этой сфере во многом зависело от различных «веяний» в правительственных кругах. О характере «веяний» можно судить по высочайшим рескриптам в связи с крестьянской реформой, которые были изданы, можно сказать, в одно время с «Письмом…» и открывали возможность для обсуждения подобных вопросов. Уже с начала следующего года журналы («Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник» и др.) стали активно пользоваться предоставленной возможностью. Но еще раньше царь давал понять о необходимости дозированного распространения критического слова в печати. «В начале 1856 г. “обличительное” направление было одобрено словами государя. С этого момента оно начинает развиваться в виде обличения разных непорядков. Хотя не должно забывать, что каждое “обличение” появлялось в печати не прежде, как пройдя строжайшую цензуру того ведомства, которого касалось. Иными словами, в сущности, ведомства сами себя обличали, поощренные к тому словами государя: “Давно бы пора говорить это!” Но поощрение “обличительному” направлению было спорадическое; оно не переходило, в сущности, в открытую “гласность”, хотя бы и “в пределах благоразумия”» (Энгельгардт Н. А. Цензура в эпоху великих реформ (1855–1857 гг.) // Исторический вестник. 1902. Т. 90. С. 139). Последние слова подразумевают записку М. П. Погодина «Царское время», поданную Александру II, где среди других задач нового царствования автор говорил о необходимости «определить, в какой степени может быть допущена гласность, в видах предохранения правительственных и прочих решений от произвольности и учреждения над ними новой необходимой инстанции — бдительного общественного мнения, без которого само правительство остается часто во тьме. Эта гласность, в пределах благоразумной осторожности, доставит ‹…› средства узнавать людей…» (Погодин. С. 313). В целях ослабления «чрезмерной строгости» и расширения гласности «в пределах благоразумной осторожности» в 1856–1857 гг. Министерство народного просвещения разрешило выпускать более 50 периодических изданий, а во многих из них стали открываться общественно-политические рубрики (до 1856 г. такие рубрики имелись лишь в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Московских ведомостях», «Северной пчеле», «Русском инвалиде»). Правительственные журналы («Журнал Министерства народного просвещения», «Журнал Министерства государственных имуществ», «Военный сборник» и пр.) охотно помещали материалы с обличением ведомственных злоупотреблений. Особо отличался в этом отношении «Морской сборник», над которым шефствовал вел. кн. Константин Николаевич, брат Александра II и его помощник в реформаторской деятельности, генерал-адмирал и глава российского флота и в котором нелицеприятно обсуждались злободневные политические вопросы. По словам Н. Г. Чернышевского, «Морской сборник» стал одним из «замечательнейших явлений нашей литературы». Подобные факты свидетельствовали о высочайшей инициативе в деле либерализации издательской политики и усиления критики недостатков в разных сферах жизни.
6…в войне против злоупотреблений литература иногда увлекалась и доходила до очевидных преувеличений… — Подразумевается острая сатира и критика межсословных отношений, появлявшаяся в обличительной публицистике и художественных произведениях (в частности, в поэзии Н. А. Некрасова) и революционизировавшая общество в период эволюционных реформ. Ср. вывод управляющего III Отделением А. Е. Тимашева о некоторых антикрепостнических стихах последнего: «…в настоящее время, когда Правительство озабочено отменою отжившего крепостного права и сохранением доброго согласия между сословиями, менее нежели когда-нибудь могут быть допущены к печати такие мысли, какие встречаются на всякой странице разбираемых стихотворений» (цит. по: Жирков. С. 107). По словам Н. Г. Чернышевского, «страшный эффект» производили на публику и «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина, об увлечении которыми в Санкт-Петербурге докладывал в октябре 1857 г. один из агентов III Отделения: «О Салтыкове вообще многие здесь того мнения, что если он даст еще больше воли своему перу, и цензура не укротит его порывы, то незаметным образом может сделаться вторым Искандером» (Герасимова Ю. И. Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х — начала 1860-х гг. М., 1974. С. 30).
7…два ‹…› чувства: раздражение и отвращение к неутихающим злоупотреблениям и священная вера в чистые, открытые и благосклонные намерения Государя. — Зеленый свет, который был дан высочайшей инициативой «обличительной литературе», вызвал не только вал острой критики сложившегося положения вещей в обществе и государстве, но и стремление сотрудничать с правительством в осуществлении различных реформ (крестьянской, судебной, университетской, земской, цензурной) у западников, славянофилов, консерваторов, либералов, демократов, в том числе и у таких радикально настроенных, как А. И. Герцен или Н. Г. Чернышевский.
8В этом мире всегда существовала какая-то предвзятость, сомнения и нерасположения, что достаточно легко объясняется особенностью его точки зрения. — Тютчева, пристально следившего с середины 1820-х гг. за «вопросом о печати», не могли не коробить те особенности официальной, казенной, «полицейской», как он отмечает далее, точки зрения, в силу которой устранялись от активного участия в общественной жизни литераторы с благородными помыслами и одухотворяющим словом. «Есть привычки ума, — заключает он, — под влиянием коих печать сама по себе уже является злом, и, хоть бы она и служила властям, как это делается у нас — с рвением и убеждением, — но в глазах этой власти всегда найдется нечто лучшее, чем все услуги, какие она ей может оказать: это — чтобы печати не было вовсе. Содрогаешься при мысли о жестоких испытаниях, как внешних, так и внутренних, через которые должна пройти бедная Россия, прежде чем покончит с такой прискорбной точкой зрения…» (Изд. 1984. С. 314). Среди конкретных проявлений прискорбной предвзятости властей Тютчев мог иметь в виду и закрытие в 1832 г. журнала И. В. Киреевского «Европеец», после того как в статье издателя «Девятнадцатый век» были обнаружены некие тайные, революционные и конституционные смыслы, совершенно противоположные воплощенному замыслу автора, или в 1836 г. журнала Н. И. Надеждина «Телескоп» после публикации в нем историософских размышлений П. Я. Чаадаева в первом философическом письме. Неадекватной формой борьбы с революционным духом в сфере печати могли служить для Тютчева и действия так называемого бутурлинского комитета, созданного в 1848 г. для постоянного контроля над цензурой и направлением периодических и прочих изданий. Цензуре подвергались уже почившие писатели А. Д. Кантемир, Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, запрещались сочинения Платона, Эсхила, Тацита, исключались из публичного рассмотрения целые исторические периоды. Обсуждение богословских, философских, политических вопросов становилось затруднительным, а касание злоупотреблений или проявление каких-либо знаков неудовольствия могло вменяться в преступление. Особое давление испытывали славянофилы, которых высокопоставленные чиновники называли «красными» и «коммунистами». В результате честные и преданные монархии люди лишались права голоса в общественной борьбе с диктатом недальновидной и своекорыстной бюрократии, что ослабляло государство под видом обманчивой демонстрации его силы и подготавливало, среди прочих причин, те «жестокие испытания», о которых говорит Тютчев. В письме к М. Н. Похвисневу в 1869 г. он писал: «Не следует упускать из виду, что наступают такие времена, что Россия со дня на день может быть призвана к необычайным усилиям, — невозможным без подъема всех ее нравственных сил — и что гнет над печатью ‹…› нимало не содействует этому нравственному подъему» (ЛН-1. С. 536).
9…строгих установлений, тяготивших печать. — Имеются в виду последствия официальной точки зрения, а также ограничения цензурных уставов 1826 и 1828 гг. Согласно первому, прозванному за изобилие и суровость руководящих правил «чугунным», специальные комитеты в Петербурге, Москве, Вильне и Дерпте должны были осуществлять строгий регламентирующий контроль за печатными изданиями. При этом данное цензору право улавливать по своему разумению скрытую мысль автора, находить и запрещать в произведениях места, «имеющие двоякий смысл, ежели один из них противен цензурным правилам», открывало широкий простор для произвольных толкований. Действовавший до 1860-х гг. устав 1828 г. ограничивал цензорский субъективизм, возвращал цензуру в Главное управление по делам печати при ведомстве народного просвещения и предусматривал создание Комитета иностранной цензуры. Однако упрощавшие цензуру изменения вскоре стали обрастать всевозможными дополнениями и поправками и осложнялись расширением круга ведомств, получивших право просматривать и рекомендовать к изданию относившиеся к сфере их интересов книги, журнальные и газетные статьи. «Итак, — писал позднее А. В. Никитенко, — вот сколько у нас ныне цензур: общая при министерстве народного просвещения, главное управление цензуры, верховный негласный комитет, духовная цензура, военная, цензура при министерстве иностранных дел, театральная при министерстве императорского двора, газетная при почтовом департаменте, цензура при III отделении собственной его величества канцелярии и новая, педагогическая ‹…› еще цензура по части сочинений юридических при II отделении собственной канцелярии и цензура иностранных книг, — всего двенадцать» (Никитенко А. В. Дневник. М., 1955. Т. 1. С. 335–336). Число учреждений, обладавших цензурными полномочиями, постоянно увеличивалось, и их получали, например, Вольно-экономическое общество или Комиссия построения Исаакиевского собора, Кавказский комитет или Управление государственного коннозаводства. «Строгие установления, тяготившие печать», особенно усилились в конце 1840-х — первой половине 1850-х гг. Поэтому, когда П. А. Вяземский, получивший поручение осуществлять основное наблюдение за цензурой, обратился к А. В. Никитенко с просьбой заняться проектом ее устройства, последний в качестве первоочередных мер отметил в дневнике от 12 февраля 1857 г. необходимость: «…освободить цензоров от разных предписаний, особенно накопившихся с 1848 года, которые по их крайней нерациональности и жестокости не могут быть исполняемы, а между тем висят над цензорами как дамоклов меч ‹…› уничтожить правило, обязующее цензоров сноситься с каждым ведомством, которого касается литературное произведение по своему роду или содержанию» (там же. С. 457). Тот же А. В. Никитенко свидетельствует о том, какие тяготы в цензурных ведомствах приходилось переносить даже археологам: «Граф А. С. Уваров рассказывал мне на днях, как он боролся с цензурою при печатании своей книги, недавно вышедшей, “О греческих древностях, открытых в южной России”. Надо было, между прочим, перевести на русский язык несколько греческих надписей. Встретилось слово: демос — народ. Цензор никак не соглашался пропустить это слово и заменил его словом: граждане. Автору стоило большого труда убедить его, что это был бы не перевод, а искажение подлинника. Еще цензор не позволял говорить о римских императорах убитых, что они убиты, и велел писать: погибли, и т. д.» (там же. С. 342). Не менее показателен для «строгих установлений, тяготивших печать», и тот факт, что редактору «Современника» И. И. Панаеву приходилось дважды ставить перед Главным управлением цензуры вопрос о публикации рукописи «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстого и недоумевать: «Такого рода статьи ‹…› должны быть, кажется, достоянием всех газет и журналов ‹…› ибо патриотизм — чувство, неотъемлемое ни у кого, присущее всем и не раздающееся, как монополия. Если литературные журналы будут вовсе лишены права рассказывать о подвигах наших героев, быть проводниками патриотических чувств, которыми живет и движется в сию минуту вся Россия, то оставаться редактором литературного журнала будет постыдно…» (цит. по: Скабичевский А. М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). С. 392). В период Севастопольского сражения военная цензура преуменьшала или замалчивала потери противника, вычеркивая чересчур «смелые» выражения, например, фразу «англичане ведут пиратскую войну», которую канцлер К. В. Нессельроде нашел оскорбительной и раздражающей общественное мнение. «И вот какие люди, — возмущался Тютчев подобными фактами, — управляют судьбами России во время одного из самых страшных потрясений, когда-либо возмущавших мир! Нет, право, если только не предположить, что Бог на небесах насмехается над человечеством, нельзя не предощутить близкого и неминуемого конца этой ужасной бессмыслицы, ужасной и шутовской вместе, этого заставляющего то смеяться, то скрежетать зубами противоречия между людьми и делом, между тем, что есть и что должно бы быть, — одним словом, невозможно не предощутить переворота, который, как метлой, сметет всю эту ветошь и все это бесчестие» (Изд. 1984. С. 234).
10Мощное, умное, уверенное в своих силах направление — вот кричащее требование страны и лозунг всего нашего современного положения. — Необходимость такого направления и «высшего руководства» печатью в деле истинного благоустроения России как православной монархии была для Тютчева обусловлена и тем, что пресса действовала исходя из собственных интересов и выгод, вступавших нередко в противоречие с интересами и нуждами страны. «Разум целой страны, — писал Тютчев А. Ф. Аксаковой, — по какому-то недоразумению подчинен не произвольному контролю правительства, а безапелляционной диктатуре мнения чисто личного, мнения, которое не только в резком и систематическом противоречии со всеми чувствами и убеждениями страны, но, сверх того, и в прямом противоречии с самим правительством по всем существенным вопросам дня; и именно в силу той поддержки, какую печать оказывает идеям и проектам правительства, она будет особенно подвержена гонениям этого личного мнения, облеченного диктатурой» (там же. С. 314).
11…все эти пресловутые сравнения с происходящим за границей: почти всегда лишь наполовину понятые, они нам принесли слишком много вреда… — Тютчев был убежденным противником каких-либо заимствований с Запада, перенесения на русскую почву европейских учреждений и институтов, как чуждых для России и на историческом опыте доказывавших свою несостоятельность. По его мнению, Россия «самим фактом своего существования отрицала будущее Запада», а потому для правильной ориентации в историческом процессе необходимо было «только оставаться там, где мы поставлены судьбою. Но такова роковая участь, вот уже несколько поколений сряду тяготеющая над нашими умами, что вместо сохранения за нашей мыслью, относительно Европы, той точки опоры, которая естественно нам принадлежит, мы ее, эту мысль, привязали, так сказать, к хвосту Запада» (цит. по: Биогр. С. 175–176). Конкретным проявлением подобного положения вещей Тютчев считал, например, копирование в новом законе о печати 1865 г. соответствующего французского, предусматривавшего замену предварительной цензуры ступенчатой системой предупреждений и наказаний по уже опубликованным материалам. «Все эти заимствования иностр‹анных› учреждений, — писал он М. Н. Каткову, — все эти законодательные французские водевили, переложенные на русские нравы, мне в душе противны — все это часто выходило неловко и даже уродливо» (ЛН-1. С. 418).
12Существенная задача заключается в том, чтобы Власть сама в достаточной степени удостоверилась в своих идеях, прониклась собственными убеждениями… — Здесь Тютчев снова проводит мысль о том, что материальная сила Власти без «идей», «убеждений», оживотворяющего Духа иллюзорна и временна. По его убеждению, как «духовенство без Духа есть именно та обуявшая соль, которою солить нельзя и не следует», так и Власть без глубокого нравственного сознания и примера теряет силу своего воздействия. «Я говорю не о нравственности ее представителей, — уточняет он в письме А. Д. Блудовой, — более или менее подначальных, и не о нравственности ее внешних органов, составляющих ее руки и ноги… Я говорю о самой власти во всей сокровенности ее убеждений, ее нравственного и религиозного credo, одним словом — во всей сокровенности ее совести» (Изд. 1984. С. 250–251). В противном случае, как писал московский митрополит Филарет, «недостатки охранителей обращаются в оружие разрушителей».
13…только приливная волна народной жизни способна снять его с мели и пустить вплавь. — Одну из важных причин ослабления садившегося на мель государственного корабля Тютчев видел в «пошлом правительственном материализме», который в его представлении не только не являлся альтернативой «революционному материализму», но оказывался его невольным и «невидимым» пособником. «Если власть за недостатком принципов и нравственных убеждений переходит к мерам материального угнетения, — отмечает он еще один “невидимый” закон духовного мира, — она тем самым превращается в самого ужасного пособника отрицания и революционного ниспровержения, но она начинает это осознавать только тогда, когда зло уже непоправимо» (Изд. 1984. С. 357). Для предотвращения подобного развития событий Тютчев считал необходимым устранять произвол и чрезмерную опеку чиновничества, преодолевать «тупоумие» «во имя консерватизма» и открывать возможности для творческого почина и личностной самодеятельности народа в рамках его органической связи с православными традициями и понятиями самодержавной монархии. По его убеждению, целям такого объединения под эгидой царя «публики» и «народа», «государства» и «общества» и должно служить «просвещенное национальное мнение» печати, которое способно выражать не корыстные интересы и узкие устремления придворно-бюрократических кругов, а «великое мнение» целой страны и о котором применительно к внешней политике он размышляет в письме к А. М. Горчакову от 21 апреля 1859 г.: «Система, которую представляете вы, всегда будет иметь врагами тех, кто является врагами печати. Как же печати не стать вашей союзницей?..» (там же. С. 258).
14…не стеснять свободу прений, но, напротив, делать их настолько серьезными и открытыми, насколько позволяют складывающиеся в стране обстоятельства. — В сознании Тютчева свобода дискуссий не противоречила принципам идеального самодержавия, которые искажались в реальной действительности и положительная сила которых должна, с его точки зрения, найти в общественном мнении достойных и талантливых выразителей, не стесненных рутиной казенных предписаний и субъективными опасениями чиновников. С его точки зрения, только в такой свободе и при наличии таких выразителей, не отягощенных той или иной корыстью, можно успешно противостоять оппонентам, использующим эффекты «запретного плода» и нарочитой «угнетенной мысли», а также то свойство прессы, которое отметил А. Е. Тимашев (в 1857 г. писавший замечания на «записку» Тютчева, а в 1868 г. ставший министром внутренних дел): «Пресса по существу своему есть элемент оппозиционный. Представляющий тем более привлекательности для общества, чем форма, в которую она облекает свои протесты, смелее и резче» (цит. по: Жирков. С. 156).
15…я ‹…› более тридцати лет следил за этим неразрешимым вопросом о печати… — Т. е. стал «следить» вскоре после начала в 1822 г. дипломатической службы в Мюнхене. Одним из ярких свидетельств этого внимания является составленная Тютчевым в начале 1832 г. депеша, в которой предвосхищаются идеи и фразеология «Письма…»: «Воздействие новых идей, день ото дня возрастающее, оживление литературы и, прежде всего, цензура, плохо исполняющая свое назначение, неспособная ни предотвратить дурные теории, ни поддержать благие, — все это породило повсеместную потребность в законодательстве, которое направляло бы периодическую печать согласно принципам более упорядоченным. ‹…› Цензура твердая, разумная, основанная на едином принципе, стала бы несомненным благом для Государства, но та цензура, которая действует здесь, порождает лишь скандалы и общественные беспорядки. Причины, кои препятствуют установлению цензуры умеренной и в то же время действенной, имеют двойную природу: одни проистекают из общего положения вещей и состояния умов в этой части Германии, другие присущи одной Баварии. Надо признать, к великому сожалению, что в последние годы во всех этих краях чрезвычайно ослабело чувство уважения к власти — то непосредственное чувство доверия к ее просвещенному превосходству, те привычки к порядку и повиновению, кои составляют силу сообществ более молодых. Потребность проверять и критиковать поступки Правительства, направлять его действия, навязывать ему свои цели, свои помыслы и даже свои пристрастия — вот что характеризует не столько ту или иную партию, то или иное направление, сколько всю просвещенную публику в целом или тех, кто себя таковой считает, и эта склонность обнаруживается не только в последних рядах среднего класса, но и в высших кругах общества. В Баварии же эти анархические притязания как нельзя более поддерживаются непоследовательными действиями Правительства, которые являются следствием особенностей характера короля. При полном отсутствии системы, сколько-нибудь установившейся, каждая партия домогается чести воздействовать на намерения Правительства, а так как цензура есть не что иное, как выражение этих намерений, она неизбежно должна будет следовать их постоянным колебаниям и таким образом множить в умах анархию, сдерживать которую она призвана» (цит. по: Динесман Т. Тютчев в Мюнхене (К истории дипломатической карьеры) // Тютч. сб. 1999. С. 150–151).
16…она в последние годы тяготила Россию как истинное общественное бедствие. — Имеется в виду так называемое «мрачное семилетие» (1848–1855 гг.), когда с началом европейских революций стали ожесточаться цензурные правила и 2 апреля 1848 г. был создан специальный надзорный комитет под председательством директора Императорской Публичной библиотеки и члена Государственного совета Д. П. Бутурлина. Комитет, вопреки цензурному уставу 1828 г., возобновил практику поиска в разных сочинениях подспудного «тайного» смысла. Стремление везде и во всем находить «непозволительные намеки и мысли» министр народного просвещения С. С. Уваров в докладе Николаю I называл манией и вопрошал: «Какой цензор или критик может присвоить себе дар, не доставшийся в удел смертному, дар всевидения и проникновения внутрь природы человека, дар в выражениях преданности и благодарности открывать смысл совершенно тому противный?» (цит. по: Исторические сведения о цензуре в России. С. 71). О том, какими «дарами» обладали многие чиновники, можно судить по деятельности предшественника Тютчева на посту председателя Комитета иностранной цензуры А. А. Красовского, которого С. С. Уваров называл «цепной собакой», а А. В. Никитенко характеризовал как «человека с дикими понятиями, фанатика и вместе лицемера, всю жизнь гасившего просвещение». Легко представить себе, в каком диапазоне произвола подобные люди могли истолковывать предписания бутурлинского комитета не пропускать в печать «всякие, хотя бы и косвенные, порицания действий или распоряжений правительства и установления властей, к какой бы степени сии последние ни принадлежали», «разбор и порицание существующего законодательства», «критики, как бы благонамеренны оне ни были, на иностранные книги и сочинения, запрещенные и потому не должные быть известными», «рассуждения, могущие поколебать верования читателей в непреложность церковных преданий», «могущие дать повод к ослаблению понятий о подчиненности или могущие возбуждать неприязнь и завистливое чувство одних сословий против других». Двойной смысл можно было искать и в статьях о европейских республиках и конституциях, студенческих волнениях, в исследованиях по истории народных бунтов и т. д., а также в произведениях художественной классики. В результате, например, в Главном управлении цензуры вставал вопрос о цензурировании нотных знаков (могут скрывать «злонамеренные сочинения по известному ключу»), наказывались под надуманным предлогом цензоры, отличавшиеся на самом деле, по словам министра народного просвещения П. А. Ширинского-Шихматова, «искреннею преданностью престолу и безукоризненной нравственностью» (профессор Петербургского университета И. И. Срезневский), или выносились порицания изданному в 1852 г. «Московскому сборнику», авторы которого (И. В. Киреевский, К. С. и А. С. Аксаковы, А. С. Хомяков) были принципиальными приверженцами православной монархии и ратовали за лечение ее «внутренних» язв в предстоянии «внешним» угрозам. «Всеведущий» и «проницательный» П. А. Ширинский-Шихматов заявлял, что «безотчетное стремление» этих авторов «к народности» может обрести крайние формы и вместо пользы принести «существенный вред», а потому отдал распоряжение обращать особое внимание «на сочинения в духе славянофилов». За единомышленниками Тютчева установили негласный полицейский надзор, что также было предусмотрено новыми предписаниями, согласно которым цензоры обязывались представлять особо опасные (политически и нравственно) сочинения в III Отделение (последнему же вменялось наблюдение за их авторами).
17…мертвой букве уставов и предписаний, обретающих ценность лишь от оживляющего их духа. — Здесь снова подчеркивается важное значение не регламентов и инструкций, а подлинного достоинства осуществляющих их конкретных людей и решающую, но часто не улавливаемую позитивистским, прагматическим, «здравомыслящим» сознанием роль духовного и нравственного фактора в истинной жизнеспособности, реальной действенности и материальной силе того или иного явления в человеческом мире. Это убеждение поэта восходит к словам ап. Павла: «…буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3, 6).
18…я разумею учреждение русских изданий за границей вне всякого контроля нашего правительства. — Тютчев придавал большое значение подобного рода «учреждениям», призванным в условиях свободной состязательности противостоять либеральной и революционной печати. Советуя М. П. Погодину, добивавшемуся публикации своих «историко-политических писем» в России, печатать их за рубежом во избежание цензурных сокращений, Тютчев писал ему 13 октября 1857 г.: «После нескончаемых проволочек поставят вам, в непременное условие, сделать столько изменений, оговорок и уступок всякого рода, что письма ваши утратят всю свою историческую современную физиономию, и выйдет из них нечто вялое, бесхарактерное, нечто вроде полуофициальной статьи, задним числом писанной. — Сказать ли вам, чего бы я желал? Мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь добрый или даже недобрый человек — без вашего согласия и даже без вашего ведома издал бы эти письма так, как они есть, — за границею… Такое издание имело бы свое значение, свое полное, историческое значение. — Вообще, мы до сих пор не умеем пользоваться, как бы следовало, русскими заграничными книгопечатнями, а в нынешнем положении дел это орудие необходимое. Поверьте мне, правительственные люди — не у нас только, но везде — только к тем идеям имеют уважение, которые без их разрешения, без их фирмы гуляют по белому свету… Только со Свободным словом обращаются они, как взрослый с взрослым, как равный с равным. На все же прочее смотрят они — даже самые благонамеренные и либеральные — как на ученические упражнения…» (ЛН-1. С. 423). Через несколько лет адресат тютчевского письма воспользовался предложенным советом и опубликовал в Лейпциге «Письма и статьи М. Погодина о политике России в отношении славянских народов и Западной Европы». Встречая цензурные затруднения, издавал свои богословские сочинения за границей и А. С. Хомяков. Необходимость в «свободных и бесконтрольных» учреждениях русской печати за границей для правдивой, равноправной и плодотворной полемики с революционной и либеральной пропагандой усматривал и В. Ф. Одоевский, замечавший, что следует «против враждебных русских изданий употребить точно такие же и столь же разнообразные издания. Например, можно бы начать с биографий Герцена, Огарева, Петра Долгорукова, Гагарина, Юрия Голицына и проч. Такие биографии о людях, имеющих известность, но все-таки загадочную для иностранцев, с радостью бы издали те же самые лондонские, парижские и немецкие спекуляторы: ибо сии биографии имели бы большой расход. Оценка сих господ, написанная ловко, забавно и без всяких личностей, уничтожила бы наполовину действие их изданий на публику ‹…› Но для того, чтобы нашлись люди в России, способные и талантливые, для борьбы с людьми такими же талантливыми и ловкими, как, например, Гагарин и Герцен (ибо по заказу талант не сотворится), необходимо дать нашим ратникам доступ к оружию, другими словами, снять с враждебных нам книг безусловное запрещение и позволить писать против них» (РА. 1874. № 7. С. 37–38). Ср. также вывод, сделанный в политическом обозрении второго номера «Русского вестника» за 1858 г.: «Вернейший способ погубить какое-нибудь начало в убеждениях людей, лучший способ подорвать его нравственную силу — взять его под официальную опеку… Правительство, не входя ни в какие унизительные и частные сделки с литераторами и журналами, может действовать гораздо успешнее и гораздо достойнее, предлагая литературе на рассмотрение и обсуждение те или другие административные, политические или финансовые вопросы и вызывая все лучшие умы в обществе содействовать ему в их разрешении» (цит. по: Жирков. С. 111). И Тютчев, и В. Ф. Одоевский, и автор политического обозрения особо настаивают на свободно-талантливой, нравственно вменяемой (и тем самым, с их точки зрения, единственно результативной), а не ограниченной и обессиливаемой чиновничье-бюрократическими представлениями и опасениями полемике с либеральными и революционными оппонентами, имея в виду прежде всего журналистскую деятельность А. И. Герцена. Между тем в правительственных кругах вынашивался замысел особого и именно подконтрольного издания, своеобразного анти-«Колокола», обсуждавшийся на заседании Государственного совета (см. об этом: Порох И. В. Из истории борьбы царизма против Герцена. С. 119–146).
19Бесполезно пытаться скрывать растущий успех сей литературной пропаганды. — Имеется в виду заграничная издательская деятельность А. И. Герцена. По свидетельствам современников, печатаемые им в Лондоне брошюры, журналы и газеты распространялись (несмотря на запреты, а отчасти и благодаря им — по эффекту «запретного плода») как в обеих столицах, так и в провинциях России, как среди почтенной публики, так и в кругу гимназистов и кадетов. По словам М. А. Корфа, «всякому известно, что при постоянном у нас существовании иностранной цензуры, нет и не было запрещенной книги, которой бы нельзя было достать; что именно в то время, когда правительство всего строже преследовало известные лондонские издания, они расходились по России в тысячах экземплярах, и их можно было найти едва ли не в каждом доме, чтобы не сказать, в каждом кармане; что когда мы всего более озабочиваемся ограждением нашей молодежи от доктрин материализма и социализма, трудно указать студента или даже ученика старших классов гимназий, который бы не прочел какого-нибудь сочинения, где извращаются все здравые понятия об обществе или разрушаются основания всякой нравственности и религии» (цит. по: Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ 1859–1865 годов. СПб., 1904. С. 137). Действительно, еще в 1853 г. по инициативе III Отделения министры финансов, иностранных дел, народного просвещения, а также генерал-губернаторы пограничных губерний получили распоряжение принимать строгие меры для воспрепятствования ввозу в Россию герценовских изданий. Тем не менее принимавшиеся меры не приносили рассчитываемого результата, а в числе добровольных «контрабандистов» оказывались не только польские эмигранты, но и весьма высокопоставленные лица из России. Так, И. С. Тургенев в письме к А. И. Герцену от 16 января 1857 г. сообщал, что сын бывшего шефа жандармов А. Ф. Орлова «не только все прочел, что ты написал, но даже (ceci entre nous) (это между нами — фр.) с месяц тому назад отвез все твои произведения к в. к. Михаилу Николаевичу» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма: В 13 т. Т. 3. М.; Л., 1961. С. 78). Ср. также свидетельство современника, что сенатор А. М. Княжевич, впоследствии министр финансов, после прочтения номеров «Колокола» посылал их под видом планов брату для распространения (Лемке М. К. Эпоха цензурных реформ 1859–1865 годов. С. 136). 26 апреля 1857 г. А. И. Герцен делился с М. К. Рейхель своей радостью по поводу приобретения новых читателей из царствующего дома: «А вы знаете, что вел‹икие› кн‹язья› читают “Пол‹ярную› зве‹зду›”? Вот, мол, тятеньку-то как пропекает…» (Герцен. Т. 26. С. 91). Отмечая складывавшуюся атмосферу, Е. А. Штакеншнайдер 6 октября 1857 г. записывает в дневнике: «В столе у меня лежит “Колокол” Искандера, и надо его прочитать спешно и украдкой и возвратить. Искандер теперь властитель наших дум, предмет разговоров ‹…› “Колокол” прячут, но читают все; говорят, и государь читает. Корреспонденции получает Герцен отовсюду, изо всех министерств и, говорят, даже изо дворцов. Его боятся и им восхищаются» (Голос минувшего. 1915. № 11. С. 185). А. М. Горчаков, адресат Тютчева, «с удивлением показывал напечатанный в “Колоколе” отчет о тайном заседании Государственного совета по крестьянскому делу… “Кто же, — говорил он, — мог сообщить им так верно подробности, как не кто-нибудь из присутствующих”» (цит. по: Корнилов А. А. Общественное движение при Александре II // Минувшие годы. 1908. № 4. С. 138). О нарастании ко времени составления «Письма…» успеха лондонских изданий Искандера свидетельствовали в начале 1858 г. его корреспонденты. Так, Н. А. Мельгунов замечал: «Молодежь на тебя молится, добывает твои портреты, — даже не бранит того и тех, кого ты, очевидно с умыслом, не бранишь» (Вольное слово. 1883. № 58. С. 9). К. Д. Кавелин писал: «Влияние твое безмерно. H‹erzen› est une puissance (Герцен — это сила — фр.), сказал недавно кн. Долгоруков за обедом, у себя. Прежние враги твои по литературе исчезли. Все думающие, пишущие, желающие добра — твои друзья и более или менее твои почитатели ‹…› Словом, в твоих руках огромная власть…» (Герцен и Огарев. ЛН. М., 1955. Т. 62. С. 385). Эту власть признавали представители разных идейных лагерей и общественных слоев. В «Былом и думах» А. И. Герцен писал: «”Колокол” — власть, — говорил мне в Лондоне, horribile dictu (страшно вымолвить — лат.), Катков и прибавил, что он у Ростовцева лежит на столе для справок по крестьянскому вопросу… И прежде его повторяли то же и Т‹ургенев›, и А‹ксаков›, и С‹амарин›, и К‹авелин›, генералы из либералов, либералы из статских советников, придворные дамы с жаждой прогресса и флигель-адъютанты с литературой…» (Герцен. Т. 11. С. 300).
Именно с герценовской «властью» связывал И. С. Аксаков предложенный на рассмотрение Тютчева горчаковский проект: «Между тем Герценская “вольная Русская печатня в Лондоне” не могла не смутить официальные сферы и заставила их серьезно призадуматься: какими бы средствами противодействовать ее влиянию? Но какими же средствами? Все запреты, все полицейские способы возбранить пропуск “Колокола” оказались бессильными. “Колокол” читался всею Россией, и обаяние единственно-свободного, впервые раздавшегося Русского слова было неотразимо. В правительственных сферах пришли наконец к мысли, что наилучшим средством вывести и общество, и себя из такого фальшивого положения было бы учреждение в самом Петербурге Русского литературного органа, такого органа, который, издаваясь при содействии, покровительстве и денежном пособии от правительства, но в то же время с приемами и развязностью почти свободной газеты, боролся бы с Герценом и направлял бы общественное мнение на истинный путь… Для редакции такого журнала предполагалось пригласить благонамеренных, благонадежных, но однако же авторитетных литераторов… Этот-то проект, сообщенный Тютчеву на предварительное рассмотрение, и послужил поводом к его письму» (Биогр. С. 266–267).
Одобривший в целом «Письмо…» А. Е. Тимашев в «Замечаниях…» не согласился с ним в том, что «Герцен так привлекателен для русских, что влияние его так сильно», и выступил против ослабления цензуры в России и свободной борьбы мнений: «Уничтожить значение писаний Герцена совершенной свободой печатания, какова она в Англии, при монархическом неограниченном правлении, невозможно, и значило бы убить себя из опасения быть убитым ‹…› Это была бы непростительная ошибка, ибо общественное мнение примет скорее сторону пишущих против правительства… Официальная газета ‹…› должна быть голосом правительства, которому не следует вступать ни в споры, ни в полемику, чтоб не рисковать быть побежденным, как бы ни были талантливы трудящиеся для него» (цит. по: Порох И. В. Из истории борьбы царизма против Герцена. С. 128–129).
20…издание Герцена. — 21 февраля 1853 г. в литографированном обращении «Вольное русское книгопечатание в Лондоне. Братьям на Руси» А. И. Герцен извещал «всех свободолюбивых русских» о предстоящем открытии своей типографии и намерении предоставить трибуну «свободной бесцензурной речи», а «невысказанным мыслям ‹…› затаенным стремлениям дать гласность, передать их братьям и друзьям, потерянным в немой дали русского царства» (Герцен. Т. 12. С. 64). В 1855 г. А. И. Герцен приступил к изданию «Полярной звезды», в 1856 г. стали печататься сборники рукописных материалов «Голоса из России», а с июля 1857 г. начал выходить «Колокол», ставивший себе задачу практического влияния на ход общественной жизни в России и находивший наибольший отклик у читателей. В первом номере «Колокола» формулируется «триада освобождения» («слова — от цензуры», «крестьян — от помещиков», «податного сословия — от побоев»), которое, по убеждению А. И. Герцена, необходимо для раскрепощения крестьянской общины как «Архимедовой точки» на повороте России к «русскому социализму». С этих позиций обсуждаются в начальный период на страницах «Колокола» различные факты текущей жизни, крестьянский вопрос, содержание конкретных правительственных актов, возможные реформы и т. п. «Издание Герцена», с быстро растущим тиражом, не только доставлялось различными путями в Россию (несмотря на строгий таможенный надзор, преследование лиц, хранивших и распространявших запрещенную продукцию, и т. п.), но и успешно продавалось у книготорговцев многих крупных городов Европы, а также получило постоянно расширявшуюся на первых порах обратную связь и популярность. О различных аспектах журналистской деятельности А. И. Герцена см. в кн. Базилева З. П. «Колокол» Герцена. М., 1949; Герасимова Ю. И. Из истории русской печати в период революционной ситуации конца 1850-х — начала 1860-х гг. М., 1974; Пирумова Н. М. Александр Герцен. М., 1989; Громова Л. П. А. И. Герцен и русская журналистика его времени. СПб., 1994.
21…люди ‹…› убеждали его подальше отбросить весь революционный хлам. — Имеются в виду находившиеся в числе активных корреспондентов А. И. Герцена И. С. Тургенев, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, П. В. Анненков, В. П. Боткин, Н. А. Мельгунов и др. Последний, например, советовал ему обходиться «осторожнее с императорской фамилией», поскольку Александр II может стать его союзником «на благо и счастье России». По свидетельству Б. Н. Чичерина, Т. Н. Грановский «не последовал за радикальными увлечениями Герцена, а, напротив, приходил в негодование от взглядов, выраженных в “Письмах с того берега” или в “Полярной звезде”» (Воспоминания Б. Н. Чичерина. М., 1991. Ч. 2. С. 36). Сам Б. Н. Чичерин, говоря о себе и своих единомышленниках, намеревавшихся печатать собственные рукописные произведения за рубежом за неимением возможности обнародовать их на родине, подчеркивал: «Однако направление Герцена, выразившееся в “Полярной Звезде” и в разных речах и брошюрах, было до такой степени противно нашим целям и убеждениям, что мы нашли вместе с тем нужным послать ему письмо с заявлением несогласия с его взглядами» (там же. С. 121). Речь идет о «Письме к издателю», принадлежавшем перу Б. Н. Чичерина и К. Д. Кавелина и опубликованном в первом выпуске «Голосов из России» с подписью «Русский либерал». Б. Н. Чичерин как представитель «гувернементального доктринаризма» (выражение А. И. Герцена) был убежден, что «только через правительство у нас можно действовать и достигнуть каких-нибудь результатов» в либеральных реформах, а потому осуждал лондонского издателя за сочувствие нигилистам и «анархическим началам», за «рьяный либерализм» и «неистовые крайности». Более резко Б. Н. Чичерин высказался в «Обвинительном акте», опубликованном в 1858 г. в «Колоколе». Его позицию поддержали недавние друзья А. И. Герцена Н. Х. Кетчер и Е. Ф. Корш. Возможно (хотя маловероятно, учитывая состояние поэта после кончины Е. А. Денисьевой), отбросить «революционный хлам» уже гораздо позднее призывал А. И. Герцена и Тютчев, когда в 1865 г. два раза встречался с ним в Париже. Годом ранее в «Колоколе» было напечатано стих. поэта «Его светлости князю А. А. Суворову» с резкими комментариями А. И. Герцена, и 9 марта 1865 г. последний писал Н. П. Огареву о встрече с Тютчевым: «Горе ему, если он станет говорить о “Колоколе”» (цит. по: ЛН-2. С. 626). И уже через два дня после встречи в письме к тому же адресату он выразился так: «Тютчев — еще больше мед и млеко…» (там же). Во всяком случае, Тютчев не мог разделять социалистических убеждений и революционного радикализма Герцена, но должен был сочувственно относиться к его критике действительных пороков в России и на Западе. В отчете за 1863 г. на посту председателя Комитета цензуры иностранной он писал, говоря о деятельности русской заграничной прессы: «Но деятельность эта отрицательная и вредная, она преимущественно направлена против русской внутренней политики, духовенства и государственных деятелей наших ‹…› Но как ни вредна для русской литературы в России заграничная русская печать, — она далеко уступает по своему вреду подобным писателям — эмигрантам, каковы Герцен, Огарев, Блюмер и Долгоруков, которые ‹…› избрали девизом своей литературной деятельности революцию и разрушение» (цит. по: Бриксман М. Ф. И. Тютчев в Комитете ценсуры иностранной // ЛН. 1935. Т. 19–21. С. 574). О неоднозначном отношении в семье поэта к издательской деятельности идеологического оппонента свидетельствует и письмо его до
22…газета ‹…› могла бы рассчитывать на какой-то успех лишь в условиях, хотя бы немного сходных с условиями противника. — Подразумевается свобода слова, отсутствие которой при цензурной стесненности лишало сторонников «христианской империи» возможности полноценного правдивого высказывания, а правительственные издания превращало в неавторитетный и теряющий доверие конъюнктурный официоз, изнутри подрывавший отклонением от истины существующий строй.