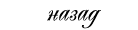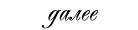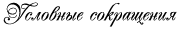Ф.И. ТЮТЧЕВ. Письма
А. Ф. Аксаковой
28 апреля 1868 г. Петербург
Pétersbourg. 28 avril
Pour le coup, ma fille chérie, vous n’avez que trop raison. L’article du 24 avril1 a été une chose regrettable et malencontreuse, et nous tous, les amis de la Москва, tous sans exception, nous en avons été péniblement affectés…
Mais comment se fait-il, bon Dieu, qu’avec un si vif sentiment des choses, on ait si peu de sens pratique…
Et qui de nous n’aurait désiré en être déjà à ce régime de la presse et à cet état de l’opinion publique qui autorisent et comportent cette âpre franchise de polémique, cette guerre à outrance aux abus… Mais en sommes-nous là… je ne dis pas seulement le pouvoir, mais même le public? Il n’y a qu’à regarder pour voir. Et dès lors peut-on traiter un enfant comme un homme fait et un convalescent comme un homme en pleine santé? Tu as très justement remarqué que la lutte de l’idée contre la force brutale est tragique et grandiose. Mais quand elle dégénère en un parti pris de lutte contre l’impossible, elle prend un tout autre caractère… On devient violent et on cesse d’être sérieux… Voilà où est le danger… Tout cela est bien triste et bien fâcheux… Ça l’est d’autant plus que la Москва n’avait plus désormais affaire à une hostilité personnelle et systématique, au moins pas de la part de Тимашев qui, comme je le sais de science certaine, était dans de très bonnes dispositions à son égard… Il avait accepté, et même avec une secrète sympathie, les deux articles sur la liberté de conscience2 et était décidé à les soutenir — ce qui n’est pas peu de chose — contre les rancunes et les doléances du Synode. — Ce n’était pas là, assurément, un mince succès, il fallait le ménager et ne pas faire déborder le vase… gratuitement…
Est-ce à dire que l’article du 24 n’ait pas raison dans le fond? Non, certes, mais il a d’autant plus tort dans la forme, celui d’abord d’être blessant, personnellement blessant pour l’Empereur et d’avoir par là même aggravé le malentendu, et d’autre part d’aller réjouir la presse polonaise à l’étranger qui ne manquera pas de s’en autoriser, comme d’un aveu, à l’appui de ses diatribes contre ce régime de sang et de terreur qui pèse sur nous tous…
A l’heure qu’il est vous devez avoir le second avertissement3 qu’il était facile de prévoir. — Maintenant de deux choses l’une — ou de quitter immédiatement la rédaction, ou de s’arranger de manière à ne pas contrarier les efforts qui pourraient être faits ici, pour amener ici, par l’entremise du G<rand>-Duc Héritier et à titre de mesure générale, un acte d’amnistie en matière de presse, — à la première occasion favorable qui ne tardera pas. — Ecris-moi un mot là-dessus, ma chère Anna, et embrasse ton mari, dont j’aime jusqu’à ses torts qui irritent sans déplaire. Dieu v<ou>s garde tous deux.
T. T.
Перевод
Петербург. 28 апреля
Да-да, милая моя дочь, ты более чем права. Статья от 24 апреля1 была прискорбной и недопустимой ошибкой, и нас, всех друзей «Москвы» без исключения, она глубоко огорчила…
Но, Боже правый, как же столь ясное понимание дела уживается с подобной непрактичностью…
Ну, кто из нас не желал бы, чтобы уже сейчас управление печатью и общественное мнение были на таком уровне, что дозволяли бы и даже приветствовали резкую прямоту полемики, ожесточенную войну с злоупотреблениями… Но доросли ли мы до этого… я имею в виду не только власть, но и общество? На сей счет трудно заблуждаться. И тут сам собою напрашивается вопрос: можно ли обращаться с ребенком, как со взрослым, а с выздоравливающим, как с человеком вполне здоровым? Ты очень верно заметила, что борьба идеи с грубой силой трагична и величественна. Но когда она превращается в упрямые наскоки на стену, то приобретает совсем другой характер… Начинаешь свирепеть и теряешь серьезность… Вот в чем опасность… Все это страшно грустно и страшно обидно… Тем более что «Москве» впредь не пришлось бы сталкиваться с систематической личной враждебностью, по крайней мере со стороны Тимашева, который, как я знаю из достоверного источника, был очень хорошо к ней расположен. Он принял, и даже с тайным сочувствием, обе статьи о свободе совести2 и приготовился защищать их — шутка ли — от нападок и жалоб Синода. — Это, безусловно, немалый успех, следовало бы его ценить и не переполнять чаши… зазря…
Значит ли это, что статья от 24 апреля ошибочна по существу? Конечно, нет, но тем ошибочнее она по форме, прежде всего потому, что она задевает, непосредственно задевает государя, усугубляя тем самым недоразумение, и еще потому, что ее появление обрадует зарубежную польскую печать, которая не преминет ухватиться за нее как за свидетельство справедливости своих ярых нападок на кровавый репрессивный режим, гнетущий всех нас…
В настоящую минуту вы, должно быть, уже получили второе предостережение3, которое легко было предвидеть. — Теперь одно из двух: либо тотчас же выйти из редакции, либо постараться не мешать усилиям, которые — при первом удобном случае, обещающем вскорости представиться, — могут быть предприняты здесь с целью добиться, через посредство великого князя наследника и под видом общей меры, акта амнистии в отношении печати. — Черкни мне по этому поводу несколько слов, моя милая Анна, и обними своего мужа, коего я люблю со всеми его промахами, вызывающими досаду, но не чувство протеста. Да хранит вас обоих Господь.
Ф. Т.
КОММЕНТАРИИ:
Печатается впервые по автографу — РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 37. Л. 138–139 об.
1 24 апреля 1868 г. в «Москве» была напечатана крайне резкая статья Аксакова против смертной казни.
2 Об этих статьях см.: письмо 412, примеч. 1.
3 28 апреля 1868 г. «Москве» было объявлено предостережение за статью против смертной казни, напечатанную 24 апреля (Материалы о цензуре и печати. Ч. II. С. 149–150). Это было второе предостережение, полученное газетой за 25 дней, прошедших со дня ее возобновления (3 апреля) после четырех месяцев вынужденного перерыва (см. письмо 396, примеч. 4).