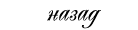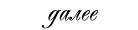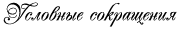Ф.И. ТЮТЧЕВ. Письма
Д. А. Оболенскому
4 декабря 1867 г. Петербург
Понедельник
Препровождаю к вам, любезнейший князь, только что полученное мною письмо от Аксакова. Очевидно, что по его делу была какая-то стряпотня, довольно нечистого свойства. Знаю одно, что в самый день, как появилось предостережение в «С<еверной> почте», Похвиснев, у которого я был поутру в двенадцать часов, ничего про это не знал… Хотя и сказано, что предостережение дано с согласия Совета…1 Но что же делать — печать у нас есть своего рода райя2, и с нею предоставлено властям поступать как угодно… Толковать тут о законности — вещь совершенно лишняя…
Но… перейдем к чему-нибудь более отрадному. — Убедительно прошу вас, любезнейший князь, поздравить от меня милую вашу именинницу… с пожеланием ей всевозможных благ… Очень жалею, что проклятый ревматизм в голове, которым я одержим со вчерашнего дня, не позволит мне отпраздновать с вами эти милые именины.
Прошу вас также заявить и перед графинею Протасовой мое искреннее сожаление по сему случаю.
Вам душевно преданный
Ф. Тютчев
P.S. Неужели в самом деле нет пределов царящей и правящей бессознательности и не восчувствуется потребности принять какие-нибудь меры ввиду преобладающего безобразия?..
КОММЕНТАРИИ:
Князь Д. А. Оболенский — в 1863–1864 гг. председатель Комиссии по выработке нового законодательства о печати; в 1863–1870 гг. директор департамента таможенных сборов Министерства финансов.
Печатается впервые по автографу — ИРЛИ. Ф. 3. Оп. 20. Ед. хр. 101. Л. 1–2.
Датируется предположительно: Тютчев пересылает Оболенскому в понедельник (4 декабря 1867 г.) только что полученное им из Москвы письмо Аксакова от 28 ноября 1867 г., в котором сообщалось, что второе предостережение, данное «Москве» 22 ноября, «в самый момент подписки, убивает материально газету» (ЛН. Т. 19–21. С. 597).
1 См. письмо 396, примеч. 1 и 4.
2 С начала XIX в. словом «райя» (букв. «стадо» — араб.) презрительно называли в султанской Турции немусульманское население. В каком смысле оно употреблено Тютчевым, поясняют строки из его предыдущего письма: «Существует инерция сознания, в силу которой сама печать воспринимается как болезнь, и с каким бы рвением и убежденностью ни служила она власти, <…> в представлении этой власти все ее услуги всегда будут ничем в сравнении с величайшим благом — отсутствием печати».