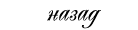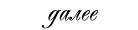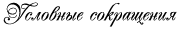Ф.И. ТЮТЧЕВ. Письма
Эрн. Ф. Тютчевой
31 августа 1867 г. Петербург
Pétersbourg. Jeudi. 31 août
J’ai reçu hier ta lettre compromettante du 23 août, et je me complais assez dans l’idée d’en avoir une de ce genre de toi. Au reste, sois tranquille. Elle ne verra plus le jour. Quant à la détruire, c’est une autre affaire. Déjà son mérite calligraphique devrait la mettre à l’abri d’un pareil outrage. En effet, la vue de ton écriture me réjouit de plus en plus, et je n’ai plus qu’un vœu à former, c’est que l’état de ta santé soit aussi normal que l’est l’écriture de tes lettres… Ce n’est pas que je révoque en doute les bonnes nouvelles que tu m’en donnes. Aussi n’est-ce pas du moment présent que je me préoccupe, mais bien de ce qui va arriver, lorsqu’on sera définitivement entré dans la mauvaise saison — et à la campagne elle se fait sentir beaucoup plus tôt qu’ailleurs.
Tous ces jours-ci ayant été des jours de fête, la procuration ne pourra guères être expédiée avant samedi prochain, c’est-à-d<ire> avant après-demain, si bien que vous ne la recevrez que d’aujourd’hui en huit. J’aime à croire que ce retard forcé n’occasionnera pas un dommage réel. — C’est demain, 1er septembre, que se fait le tirage, et je te promets de travailler de toutes mes forces à faire sortir tes numéros de préférence à tous autres. D’ailleurs je vous ai ménagé quelques petites chances supplémentaires. Il va se tirer ici sous les auspices de la G<rande>-D<uchesse> Hélène une loterie au profit du Conservatoire de Musique — dont le plus gros gain est de 35 000 r<oubles> argent comptant. J’ai pensé que vous ne dédaignerez pas un pareil revenant-bon, et j’ai fait l’acquisition de trois billets, pour toi, pour Marie et p<our> moi. Je ne manquerai pas de vous envoyer les vôtres…
Hier on a fêté ici la fête de l’Empereur, il n’y avait pas mal de monde au couvent de Nevsky, le Grand-D<uc> Constantin en tête, — qui, par parenthèse, s’est trouvé mal à l’église, mais le soir je l’ai rencontré à Павловск, et il m’a paru parfaitement remis de son malaise momentané. — La veille je me suis trouvé dans ce même couvent assistant à des prières de mort pour Michel Mouravieff… dont ce jour-là était le 1er anniversaire. Il y avait là sa cousine, son fils Léonide avec sa femme, mais sans Sophie, restée à la campagne, plus une vingtaine de personnes amies. Le temps était doux et clair, et je me disais que j’aimerais assez avoir à offrir un temps pareil aux bonnes âmes qui voudront à pareille date me faire à mon tour leur visite de nouvel an…
Il vient de paraître dans la Revue des Deux Mondes du 1er septembre un article sur le Congrès Slave en Russie, un article écrit par un Polonais1 où, à ce qu’on m’a dit, il est beaucoup question <de moi>,* ce qui serait assez indifférent. Mais ce qui l’est moins, c’est que dans ce même article il est parlé de mes rapports avec le Prince Gortchakoff, sur le compte duquel on cite quelques plaisanteries plus ou moins réussies qu’on s’obstine à m’attribuer et dont la paternité est pour le moins douteuse… Eh bien, tel est le fond excellent de cette sympathique nature du Chancelier qu’il m’a parlé de ce petit incident avec la plus aimable gaieté et ouverture d’esprit, bien qu’il puisse avoir quelque raison d’admettre l’authenticité des propos cités, attendu que, quand il en a parlé aux personnes de son entourage, celles-ci se sont empressées de lui dire que ces propos leur étaient connus depuis longtemps, ainsi que du public. — Mais, encore une fois, tout cela n’a été qu’un petit flocon de nuage, déjà fondu à l’heure qu’il est.
Quant à mes nouvelles de Moscou, elles en sont toujours encore à l’état de conjectures… Jamais, je crois, pareil anachronisme ne s’est produit dans des calculs de grossesse, et j’ai par moments l’idée que ce n’est pas une grossesse réelle, et que tout cet état d’incertitude va se résoudre par quelque phénomène tout à fait anormal.
En attendant, le coup qui menaçait la gazette d’Aksakoff a été heureusement conjuré, grâce à l’absence de Валуев, je suppose. On a reculé devant la responsabilité d’une décision qui aurait été d’une iniquité révoltante, car il a paru dans ces derniers temps dans la gazette de Катков des articles d’une portée bien autrement grave et d’une hostilité encore plus incisive. — Or, comme je savais que personne n’aurait le courage de toucher à la G<azette> de Moscou, j’ai réclamé pour ces articles la priorité d’un avertissement sous peine de constater de la manière la plus flagrante, en nous y refusant, notre inconséquence et notre pusillanimité… Il est de fait que ce pauvre Conseil est une pitoyable chose et bien digne de refléter dans son infimité le grand tout dont il fait partie.
La santé de Dima est très satisfaisante. Il va, vient, s’occupe parfois avec un étudiant qui vient le voir. Je jouis de son voisinage, mais sans indiscrétion, c’est-à-d<ire> en lui laissant une liberté d’action pleine et entière. — Je ne crois pas qu’il puisse jamais se dire que le toit paternel ait beaucoup pesé sur lui. — Nos heures étant trop différentes, il ne nous arrive guères de dîner ensemble, mais nous nous réunissons quelquefois pour le déjeuner.
Je pourrais t’écrire ainsi des volumes, mais je sens que mes doigts se contractent et vont me refuser tout service. Ainsi adieu, pour le moment. Je vous quitte, ma chatte chérie, pour aller m’occuper de la procuration. C’est l’excellent Добровольский2 qui va m’arranger tout cela.
Mille tendresses à Marie. Je lui ai écrit la dernière fois une lettre qui ne lui aura laissé rien à désirer, quant au volume.
Dieu v<ou>s garde.
Перевод
Петербург. Четверг. 31 августа
Вчера я получил твое компрометирующее письмо от 23 августа и страшно доволен, что у меня есть нечто в таком роде от тебя. Впрочем, будь спокойна. Оно надежно спрятано. Что же до того, чтобы его уничтожить, то это уволь. Уже одно каллиграфическое совершенство должно было бы защитить его от подобного надругательства. Действительно, вид твоего почерка радует меня все больше и больше, и мне остается только пожелать, чтобы твое здоровье нормализовалось так же, как начертание твоих букв… Дело не в том, что я не верю хорошим новостям, которые ты мне сообщаешь. И волнует меня вовсе не настоящий момент, а ближайшее будущее, когда окончательно установится плохая погода — ведь в деревне она дает себя знать гораздо раньше, чем где-либо.
Поскольку все эти дни у нас праздничные, доверенность никак не сможет быть отправлена до ближайшей субботы, то есть до послезавтра, так что ты получишь ее самое скорое через неделю. Очень надеюсь, что эта вынужденная задержка не сильно повредит делу. — Завтра, 1-го сентября, состоится розыгрыш, и я обещаю тебе приложить все усилия, чтобы выпали по преимуществу твои номера. К тому же я чуть-чуть увеличил ваши шансы. Здесь под покровительством великой княгини Елены Павловны будет разыгрываться лотерея в пользу Консерватории — и самый большой приз в ней составит 35 000 рублей наличными. Я подумал, что вы не пренебрежете подобным случаем обогатиться, и заказал три билета, для тебя, для Мари и для себя. Не премину переслать вам ваши…
Вчера праздновали именины императора, в Невской лавре собралось немало народу во главе с великим князем Константином, — которому, между прочим, сделалось дурно в церкви, однако вечером я встретил его в Павловске, и он показался мне совершенно оправившимся от своего минутного недомогания. — А накануне я был в той же самой лавре на панихиде по Михаилу Муравьеву… с чьей смерти в тот день минул ровно год. Присутствовали его кузина, его сын Леонид с женой, но без Софи, которая осталась в деревне, еще человек двадцать друзей. Погода стояла мягкая и солнечная, и я подумал: как бы мне хотелось получить возможность дарить такую погоду добрым душам, которые по тому же поводу будут наносить мне ежегодный визит…
В «Revue des Deux Mondes» от 1-го сентября появилась статья о Славянском съезде, написанная неким поляком1, где, как мне сообщили, много внимания уделено моей особе, что само по себе меня нисколько не взволновало бы. Но хуже то, что в этой статье говорится о моих отношениях с князем Горчаковым и приводится несколько более или менее удачных острот в его адрес, которые упорно приписываются мне, хоть их происхождение, по меньшей мере, сомнительно… И что ж, наш милейший канцлер оказался настолько добр, что говорил со мной об этом маленьком недоразумении с самой благодушной веселостью и откровенностью, хотя имел основание поверить в мое авторство, ибо его приближенные, которых он спросил об упомянутых остротах, поспешили сказать ему, что давным-давно их знают, как знает весь свет. — Но повторяю, это было всего лишь маленькое облачко, уже растаявшее.
Что до новостей из Москвы, то они по-прежнему состоят из одних догадок… Никогда еще, я убежден, сроки беременности так не растягивались, и у меня порой возникает мысль, что беременность эта не настоящая и что все это состояние неопределенности разрешится каким-нибудь совершенно ненормальным феноменом.
Тем временем грозивший аксаковской газете удар был благополучно предотвращен, благодаря, мне кажется, отсутствию Валуева. Спасовали перед ответственностью решения, которое стало бы вопиющим произволом, потому что в последнее время в газете Каткова появились статьи с выпадами гораздо более серьезными и еще более резкими. — Поскольку же я знал, что ни у кого не хватит смелости тронуть «Московские ведомости», я потребовал начать с предупреждения за эти статьи под страхом того, что, закрыв на них глаза, мы самым откровенным образом распишемся в нашей непоследовательности и трусости… Поистине, этот злосчастный Совет — жалкое учреждение, достойно отражающее в своей мизерности то огромное целое, частью которого оно является.
Димино здоровье вполне удовлетворительно. Он все время на ногах, иногда занимается со студентом, который к нему захаживает. Я наслаждаюсь его соседством, но без навязчивости, то есть предоставляя ему полную и неограниченную свободу действий. — Не думаю, чтобы он мог когда-либо сказать, что отеческий кров слишком тяготел над ним. — У нас совершенно разный распорядок дня, и нам почти не случается вместе обедать, но мы часто встречаемся за завтраком.
Я бы мог писать тебе без конца, но чувствую, что пальцы мои деревенеют и скоро откажутся мне повиноваться. Так что пока до свиданья. Я покидаю тебя, милая моя киска, чтобы идти заниматься доверенностью. Милейший Добровольский2 мне все это устроит.
Нежно поцелуй за меня Мари. В последний раз я написал ей письмо, которое должно ее вполне удовлетворить, хотя бы своей пространностью.
Господь с вами.
КОММЕНТАРИИ:
Печатается впервые по автографу — РГБ. Ф. 308. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 92–95 об.
1 В «Revue des Deux Mondes» от 1 сентября 1867 г. была помещена статья под названием «Le Congrès de Moscou et la Propagande panslaviste» (подпись «Julian Klaczko»). Автор статьи, не скрывая своего негативного отношения к Славянскому съезду, довольно подробно описывал все происходившее на нем. Имя Тютчева упоминалось среди присутствовавших на съезде и в связи с чтением, в качестве приветствия прибывшим гостям, его поэтического послания «Славянам». Была приведена французская острота Тютчева «Le Narcisse de l’écritoire» («Нарцисс чернильницы»). Так, по свидетельству современников, он называл А. М. Горчакова.
2 Имеется в виду З. М. Добровольский, казначей Комитета цензуры иностранной.
* Пропуск в автографе; восстанавливается по смыслу.