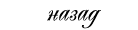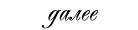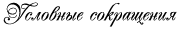Ф.И. ТЮТЧЕВ. Письма
Д. Ф. Тютчевой
Конец июля — начало августа 1862 г. Женева
Martigny. Sion. Bains de Loèche. La Gemmi. Candersteg. Interlaken. Thun.
Cette série de dates résume les derniers quinze jours de mon existence de touriste. C’est tout un monde d’enchantement. Je me suis assuré, par mes yeux, que toutes ces belles choses existent en réalité. Dans quelques semaines j’en douterai.
J’ai eu quelques très bons quarts d’heure dans le courant de ces derniers quinze jours… Des quarts d’heure où je me suis senti vivre de la vie d’autrefois, de la vie d’il y a cent ans…
Savez-vous, ma fille chérie, ce que c’est que la Gemmi, p<ar> e<xemple>? C’est une montagne à pic, de 7 mille pieds de haut, qui sépare les bains de Loèche de la délicieuse vallée de Candersteg qui mène aux lacs de Thun et de Brienz… C’est un des passages les plus rudes et les plus scabreux des Alpes de l’Oberland. Une dame française y a péri l’année dernière. J’ai grimpé là-haut et me suis arrêté à l’endroit où le mulet de cette pauvre dame s’étant abattu, son pauvre corps a roulé, de rocher en rocher, dans un précipice de cent pieds de profondeur. Elle venait de se marier.
Ce qui est d’une beauté inexprimable, c’est le silence absolu qui règne sur les hautes cimes. C’est un monde à part qui n’appartient plus aux vivants.
A Interlaken j’ai rencontré une foule de Russes, mais personne de très connu, sauf le G<énér>al Poutiatine1 et l’inévitable Mlle de Gervais que son oncle, le Comte Bloudoff, avait essayé d’enfermer comme folle dans une maison de santé, tentative qui pourtant n’a pas abouti, si ce n’est à une espèce d’apologie assez malencontreuse que le pauvre Comte a été obligé de faire insérer dans les journaux, pour justifier cette mesure non-réussie… Elle allait me raconter toute cette histoire au long, lorsque la cloche d’un bateau à vapeur qui l’emmenait est venue lui couper le sifflet…
Sur le lac de Brienz je suis allé voir le Giessbach, éclairé aux feux de Bengale. Ce jour-là j’ai rencontré, à quelques heures d’intervalle, le fameux Kossuth2 et la Reine douairière de Naples3.
A Thun j’ai donné lieu à une singulière méprise. Quelques stupides Anglais, ayant lu dans le livre des étrangers mon nom accompagné de ma qualité de Chambellan, et n’ayant, à ce qu’il paraît, pu déchiffrer de mon griffonnage que les mots: Empereur de Russie, se sont persuadés que c’est bien l’Emp<ereur> de Russie en personne qui se trouvait incognito à l’hôtel de Bellevue, à Thun, et ont si bien accrédité ce bruit, que le soir la musique de l’hôtel n’a pas manqué, par déférence pour l’Auguste visiteur, de tonner le Боже, царя храни. Ils ont pourtant fini par se détromper…
A Berne j’ai vu l’ours qui a croqué l’Anglais et qui ne paraît pas s’en souvenir — et à Fribourg l’orgue, que j’avais entendu il y a 22 ans, m’a inondé d’une tristesse qu’aucune parole humaine ne saurait exprimer.
Ah, ma fille, pourquoi vit-on jusqu’à un certain âge…
Eh bien, de tous ces endroits que je vous ai énumérés, je me proposai de vous écrire, mais la conviction m’a manqué. Et, certes, elle aurait manqué à moins. En effet, je ne sais ce qui vous arrive et comment je dois m’expliquer ce silence de néant où vous vous renfermez à mon égard… Heureusement, j’ai usé l’inquiétude, car autrement j’en serais fou à l’heure qu’il est… Les dernières nouvelles que j’aie reçues de vous, c’est ta lettre en date du 2 juillet qui est allée me chercher à Bade. Tu avais, peut-être, quelque raison de me l’adresser là. Car il y a 3 semaines que j’aurais dû y être. Mais au moment d’y aller je me suis si vivement rappelé certaines impressions de la localité, la cohue des salons de jeu, le désœuvrement affairé de tout ce monde plus qu’à moitié canaille se coudoyant toute le journée comme dans une impasse, — voire même le cercle prétentieusement exclusif de nos dames de Pétersb<ourg>, que je suis si sûr de revoir longuement dans le courant de cet hiver. — Je me suis si vivement représenté tout cela, que j’ai eu honte de mon empressement à aller ressaisir toutes ces belles choses si connues et toujours les mêmes, tandis qu’à deux pas de moi je pouvais me donner le spectacle des plus grandes magnificences de la nature… Et c’est ce scrupule de conscience qui a décidé la tournée que je viens d’accomplir… Maintenant me voilà revenu encore une fois sur les bords du Lac de Genève que j’ai revus avec un plaisir infini, tant il y a un charme tout particulier attaché à cette localité. Ce qui m’a aussi ramené ici, c’est une vague velléité de faire une course à Chamonix, que je devais faire il y a trois semaines, mais qu’au moment donné des apparences de mauvais temps m’avaient fait ajourner. Maintenant c’est le moment de la saison le plus favorable pour la réaliser, mais cette réalisation dépend de certaines conditions: et d’abord, il faut que je trouve à m’associer à quelqu’un de plus convaincu que moi, comme j’avais réussi à le faire pour ma course précédente grâce à un bon jeune homme, un compatriote, un certain Mr Korsakoff, officier d’artillerie, et sorti depuis quelques mois seulement de la maison des fous, dont il a emporté quelques impressions assez originales… Et puis — ou plutôt avant tout — il faut qu’à tout prix j’aie de vos nouvelles. Je viens de télégraphier à Bade-Bade pour réclamer les lettres qui pourraient s’y trouver à mon adresse… et je puis dire avec toute vérité, que j’en ai la fièvre d’incertitude et d’impatience… Voilà deux grands mois que je suis sans nouvelles directes de ma femme et de Marie. J’aurais commis des crimes à être traduit en cour d’assises, que je n’aurais pas mérité un pareil supplice. Ceci, positivement, m’empoisonne tout… Enfin, à la grâce de Dieu… Mais cette expérience ne sera pas perdue pour moi. Pour le 15 août st<yle> russe je serai bien certainement rentré à Pétersb<ourg>. C’est vers cette époque, je suppose, que tes frères doivent y rentrer… Voilà beaucoup de griffonnage, et que vous ai-je dit? — Ma santé est fort bonne, mais je puis bien dire qu’en ce moment c’est le cadet de mes soucis… C’est de vos nouvelles que j’ai besoin…
Перевод
Мартиньи. Сион. Луэшские источники. Жемми. Кандерстег. Интерлакен. Тун.
Перечень этих мест подводит итог двух последних недель моей жизни путешественника. Это какой-то волшебный мир. Я собственными глазами уверился в том, что все это великолепие существует в действительности. Через месяц-другой буду в этом сомневаться.
За последние две недели мне выпало несколько чудесных минут… Минут, когда я чувствовал, что живу в прошлом, живу той жизнью, какой жили сто лет назад…
Знаешь ли ты, моя милая дочь, что такое, например, Жемми? Это отвесная гора высотой в семь тысяч футов, которая отделяет Луэшские источники от восхитительной Кандерстегской долины, ведущей к Тунскому и Бриенцскому озерам… Это один из самых трудных, самых опасных перевалов через Верхние Альпы. Одна француженка погибла там в прошлом году. Я вскарабкался туда и остановился на месте, где споткнулся мул этой несчастной дамы и откуда бедняжка скатилась, падая с утеса на утес, в пропасть глубиной сто футов. Она только что вышла замуж.
Что невыразимо прекрасно, так это полнейшая тишина, которая царит на этих вершинах. Это особый мир, живым уже не подвластный.
В Интерлакене я встретил множество русских, но никого из хороших знакомых, кроме генерала Путятина1 и неизбежной мамзель Жерве, которую ее дядя, граф Блудов, пытался было запереть как сумасшедшую в лечебницу; попытка эта, впрочем, ни к чему не привела, если не считать довольно неудачного объяснения, которое бедный граф был вынужден напечатать в газетах, дабы оправдать свою безуспешную затею… Она собиралась рассказать мне эту историю во всех подробностях, однако колокол увозившего ее парохода прервал бедняжку на полуслове…
На Бриенцском озере я ходил смотреть Гисбах, освещенный бенгальскими огнями. В тот день я видел, с промежутком в несколько часов, знаменитого Кошута2 и вдовствующую королеву Неаполитанскую3.
В Туне я послужил поводом к странному недоразумению. Какие-то тупоумные англичане, прочитав в книге приезжих мое имя, за которым следовало звание камергера, и, как видно, разобрав в моих каракулях лишь слова: Императора Всероссийского, вообразили, будто сам российский император, собственной персоной, находится инкогнито в гостинице «Бельвю» в Туне; и они столь успешно распустили этот слух, что вечером оркестр гостиницы не преминул, из чувства почтения к августейшему гостю, грянуть «Боже, царя храни…». Однако в конце концов заблуждение их было развеяно…
В Берне я видел медведя, который загрыз англичанина и виду не подает, что помнит об этом, а во Фрибуре орган, слышанный мною 22 года тому назад, преисполнил меня такой грустью, какую не выразить ни единым человеческим словом.
Ах, дочь моя, и зачем только люди доживают до старости…
Ну так вот, я предполагал писать тебе из всех тех мест, которые перечислил, но не был уверен, следует ли это делать. И оснований для подобной неуверенности было более чем достаточно. В самом деле, я не знаю, что с тобою сделалось и чем я должен объяснить себе то гробовое молчание, которым ты от меня отгородилась… К счастью, беспокойство мое уже исчерпано до дна, а то оно свело бы меня с ума… Последним известием, полученным мною от тебя, было письмо от 2 июля, отправленное в Баден. Пожалуй, ты имела некоторое основание адресовать его туда, ибо мне надлежало быть там 3 недели тому назад. Но в ту минуту, как я собирался туда ехать, мне так живо припомнились кое-какие впечатления, связанные с этим местом, толчея игорных зал, суетливое безделье всего этого люда, более чем наполовину состоящего из сброда, который день-деньской топчется там, как в тупике, — даже высокомерно обособленный кружок наших петербургских дам, на которых я и так вдоволь нагляжусь в течение этой зимы. — Я так живо представил себе все это, что устыдился своей готовности вновь окунуться во все эти прелести, столь знакомые и столь неизменные, тогда как в двух шагах от меня находились величайшие красоты природы, созерцанию коих я мог предаться… Именно этот укор совести и побудил меня предпринять поездку, которую я только что завершил… Сейчас я возвратился на берега Женевского озера и с бесконечным удовольствием вновь свиделся с ними, столько в этой местности совсем особенного очарования. Привела меня сюда также смутная надежда на поездку в Шамони, которую я собирался предпринять еще три недели тому назад, но вынужден был тогда отложить из-за ухудшения погоды. Сейчас самое подходящее время для ее осуществления, но для этого нужны определенные условия. Прежде всего мне следует приискать себе спутника, более решительного, нежели я, такого, как тот, которого мне посчастливилось найти в предыдущую мою поездку в лице одного милого молодого соотечественника, некоего г-на Корсакова, артиллерийского офицера, всего за несколько месяцев перед тем выпущенного из сумасшедшего дома, откуда он вынес довольно своеобразные впечатления… А затем — или, вернее, прежде всего — я должен во что бы то ни стало получить от вас известия. Я только что телеграфировал в Баден-Баден, чтобы вытребовать письма на мое имя, которые могут там оказаться… и скажу со всей искренностью, что нахожусь в лихорадочном возбуждении от неизвестности и нетерпения… Вот уже целых два месяца моя жена и Мари ничего мне не пишут. Если бы даже я совершил преступления, подлежащие уголовному суду, то и тогда не заслужил бы подобной кары. Это решительно отравляет мне всё… Что ж, положимся на милосердие Божье… Но это испытание не пройдет для меня даром. К 15-му августа русского стиля я наверное вернусь в Петербург. Полагаю, что к этому времени возвратятся туда и твои братья… Измарал много бумаги, а что я тебе написал? — Мое здоровье прекрасно, но могу сказать, что в настоящую минуту оно менее всего меня занимает… Известий от вас — вот чего мне нужно…
КОММЕНТАРИИ:
Д. Ф. Тютчева — вторая дочь поэта от первого брака. Детство ее прошло в Мюнхене. В 1845–1851 гг. она воспитывалась в Смольном институте, затем жила в семье отца. В 1858 г. Д. Ф. Тютчева стала фрейлиной императрицы Марии Александровны.
Комментарием к этим скупым фактам биографии Д. Ф. Тютчевой могут служить письма к ней сестры Екатерины Федоровны. «В последнее время, — писала Е. Ф. Тютчева 29 мая 1862 г., — я много думала о вашей жизни, жизни фрейлин, и пришла к выводу, что она полна трудностей. Жизнь среди роскоши, среди надуманных и неутолимых потребностей; свобода в ограниченном и тлетворном кругу. Одиночество сердца и ума посреди постоянного общения с себе подобными, которые обращены к вам только мелочной стороной своей натуры, отсутствие серьезных и живительных обязанностей в сочетании с неукоснительными обязательствами, которые налагаются самыми ничтожными в жизни пустяками; этого вполне достаточно, чтобы раздражать даже очень умеющего держать себя в руках человека» (ЛН-1. С. 439. Перевод с фр.).
«Одиночество сердца и ума», внутреннюю неустроенность Дарьи Федоровны ощущал и Тютчев, поэтому нередко его письма к ней, «столь любящей и столь одинокой» (письмо 37), отличаются особенной задушевностью, как и посвященные ей стихи: «Не все душе болезненное снится…», «Когда на то нет Божьего согласья…», «De ces frimas, de ces déserts…».
Печатается по автографу — РГАЛИ. Ф. 505. Оп. 1. Ед. хр. 73. Л. 34–37 об.
Первая публикация — ЛН-1. С. 445–449.
Место и время написания определяются содержанием: 25 мая 1862 г. Тютчев выехал из Петербурга за границу; 25 июля, совершив описанное в этом письме путешествие по Швейцарии, прибыл в Женеву; возвратился в Россию 15 августа (Летопись. С. 147–148).
1 Речь идет о гр. Е. В. Путятине, адмирале, генерал-адъютанте, члене Государственного совета.
2 Л. Кошут — главный организатор борьбы венгерского народа за независимость во время революции 1848–1849 гг.
3 Имеется в виду вдова короля Обеих Сицилий (столица Неаполь) Фердинанда II Терезия.