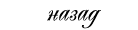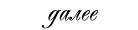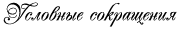Ф.И. ТЮТЧЕВ. Письма
Эрн. Ф. Тютчевой
14/26 августа 1843 г. Петербург
Ma chatte chérie, j’écris exprès en grosses lettres — St-Pétersbourg. Ce 26 août 1843 — pour te faire toucher au doigt de combien de couches s’est diminué la formidable distance qui nous sépare. Oui, ma bonne, me voilà depuis trois jours à Pétersb<ourg> en plein courant européen, entouré de nouveau de tous ses bruits et de toutes ses rumeurs, si bien que je pourrais au besoin y démêler le petit souffle de la petite Casimire. N’est-ce pas joli? Tu ne saurais croire, toi, combien à 300 lieues de distance il est doux de sentir l’effet de sa présence Casimirienne. C’est par le cher Cardenos que cette impression amie, que cette tiède bouffée m’est arrivée.
Une autre impression, bien autrement amie et restaurante avait été celle-ci: le jour même de mon départ, deux heures avant de monter en voiture, le sort a eu la très aimable attention de me faire parvenir ta lettre du 3 de ce mois. Elle arrivait à point,* car l’attente commençait à tourner à l’inquiétude, et d’ailleurs j’avais besoin d’une récompense pour les 3 jours d’horrible existence que j’allais passer enfermé dans la caisse de la diligence. Cette lettre fut donc la très bien venue, et bien qu’elle fut, ne t’en déplaise, une des plus fraîches et des plus calmes que tu n’eusses jamais écrites, telle est néanmoins l’horrible partialité du cœur humain que je sentais, en empruntant un chiffon du papier, qu’il m’était plus cher que tout ce que je laissais derrière moi. Et cependant c’est un monde bien uni, bien sympathique que celui que je quittais. Les adieux de mes bons vieux ont été des plus tendres, et ceux de ma mère en particulier m’ont été presque pénibles. Un certain degré de sensibilité maintenant, presque dans la vieillesse, devient un contresens. Toute la famille m’a accompagné jusqu’au bureau des diligences, et l’apparition de ma mère dans un pareil endroit était un fait sans précédant et sans analogue dans sa vie. Je n’ai pas besoin de te dire que dans la matinée du jour de mon départ qui était un dimanche il y a eu après la messe le Te Deum obligé, suivi d’une visite dans une des chapelles les plus révérées de Moscou, où se trouve une image miraculeuse de la Ste Vierge d’Ibérie. En un mot, tout c’est passé dans la forme de la plus stricte orthodoxie. Eh bien, pour qui ne s’y associe qu’en passant, pour qui peut en prendre à son aise, il y a dans ces formes, si profondément historiques, il y a dans ce monde russo-byzantin, où la vie et le culte ne font qu’un, et si vieux que Rome elle-même, comparé à lui, sent quelque peu d’innovation, il y a dans tout cela, pour qui a l’instinct de ces choses, une grandeur de poésie incomparable, une grandeur telle quelle subjugue l’inimitié la plus acharnée, car au sentiment de ce passé, déjà si vieux, vient fatalement s’ajouter le pressentiment d’un avenir incommensurable. Ce sera un éternel regret pour moi que de n’avoir pas te faire voir Moscou. Comme ta nature, la plus intelligente des natures humaines, aurait vite et bien compris ce qu’il y a dessous. — Mais pour changer de ton, parlons un peu des affaires personnelles à mon chétif individu. Me voilà à Pétersbourg, quelque peu pendu dans le vague de mes projets, car, à bien considérer les choses, je ne vois pas ce que j’ai à chercher ici, sinon un p<asse>port pour l’étranger. Demanderai-je ma réintégration au service, en me faisant attacher de nouveau à la légation de Munic. Mais ce serait là, à mon sens, une chose absurde, car ce serait de la dépendance accompagnée de quelques-uns de ses inconvénients et sans aucune de ses compensations. Je sais que c’était là le désir de Sévérine, tout comme c’est aussi l’avis de mon frère. Mais ni l’un, ni l’autre ne m’ont convaincu. Le fait est que ce qui pourrait me convenir dans le service, je ne suis plus en droit de le demander, et que tout ce qui n’est pas cela ne ferait qu’entraver ma position au lieu de l’améliorer.
D’autre part, vivre ici dans l’attente de quelque coup favorable du sort serait aussi absurde que de se mettre à spéculer sérieusement sur les chances d’un gain à la loterie. Je n’ai d’ailleurs ni les moyens, ni surtout l’envie de m’éterniser ici à attendre ce miracle. Je suis donc résigné à ne tirer d’autre profit de mon voyage à Pétersb<ourg> que d’essayer de régulariser ma démission et puis aussitôt après je demanderai un p<asse>port pour l’étranger. Mais le mal est que même pour réaliser ce programme si modeste, je n’ai pas sous la main les intermédiaires dont j’aurais besoin. Les Krüdener sont à Péterhoff, où je compte aller les voir demain ou après-demain. La Gr<ande>-Duchesse Marie de L<euchtenberg> qui y est aussi, n’est pas encore relevée de couches et de plus, dans l’affliction et les larmes par suite de la mort de sa fille aînée1. Pauvre jeune femme. C’est le jour même de l’enterrement de son enfant, le 10ème après ses couches qu’elle a appris par l’Emp<ereur> que l’enfant était mort. Je parie, ma chatte, que ta pensée et la mienne se sont rencontrées sur le même sujet, en apprenant cette jeune mort.
L’impatience d’écrire commence à me gagner. J’abrège et je finis. Je ne puis ni prétendre, ni attendre. Et cependant, je le sais, de retour à Munic j’aurais des remords, comme si j’avais manqué la fortune d’un Roi. Et cependant le voyage n’aura pas été stérile, puisqu’il m’aura valu, selon toute probabilité, de 10 à 12 m<ille> de rente. Et à ce sujet je ne comprends pas ton raisonnement. Comment peux-tu préférer l’ancien ordre des choses, c’est-à-d<ire> rien, au nouvel arrangement. Et comment aurais-je pu éviter la dépendance, où je me trouve fatalement placé vis-à-vis de mon frère, à moins de m’établir à la campagne pour y servir mes affaires moi-même. D’ailleurs puis-je sérieusement le supporter capable de me voler ma part d’un bien qui nous a été donné en commun? Et quel autre arrangement aurais-je pu suggérer?
Ici, à Pétersbourg, je me suis retrouvé en plein Munic dans la diplomatie, Colloredo, Colobiano, Cardenos, le spongieux Waechter, Otterstedt2, etc. etc. Et hier à un grand bal à 7 lieues de la ville et où j’ai été condamné à rester jusqu’à 4 h<eures> du matin, grâce au chemin de fer — j’ai retrouvé la jolie Mad. Koutousoff, toujours maigre et jolie, la ci-devant Mlle Poltavtzoff et cette grosse Comtesse Koutaissoff3 que tu as si peu goûtée à Gênes et qui maintenant s’est affectueusement enquis de tes nouvelles. Les réminiscences de l’Europe surgissent ici à chaque pas, et cela produit une illusion d’optique qui trompe sur les distances.
La même date
Peste soit des écritures! Quelle absurde mystification que les écritures! et qu’il devait être et niais, et lieu commun, et brumeux, le premier qui s’est avisé de prétendre qu’on parlait en écrivant. C’est comme si on prétendait faire un voyage de long cours, en sautant à cloche-pied. Voilà que j’ai écrit quatre grandes pages, sans te dire un seul mot qui m’intéressât, moi, c’est-à-d<ire> sans te dire un seul mot qui eût rapport à toi. J’ai calculé le jour, où je quittais Moscou, que ce jour-là même, c’était le 20 août, tu arrivais à Munic. Ah, quand viendra cet autre jour, où tu verras ma chienne de figure surgir inopinément devant toi? Sache, ma bonne amie, que l’absence m’excède au dernier point, qu’il y a longtemps que je ne t’ai vue et que je me sens très mal à cette privation. Je te dis cela avec l’abandon le plus complet de ma dignité, car je sais bien qu’à l’heure qu’il est je ne puis plus compter sur ta réciprocité. Je le sais. Je le sens. — Mais n’importe. Je suis trop vieux pour recommencer à aimer — et bon gré, mal gré, il faut que je m’habitue à me contenter d’une affection même partagée. On n’est plus digne d’autre chose. Quant à moi, vois-tu? Pour être entièrement vrai, je dois te dire qu’il n’y a que toi que j’aime véritablement au monde, tout le reste n’est qu’accessoire, tout le reste c’est un dessus de moi, tandis que toi, c’est moi-même, et cette affection n’est si vraie que parce qu’elle est de l’égoïsme tout pur.
Ainsi, en lisant ta dernière lettre, où rien ne trahit le malaise de la privation, le souvenir de tes lettres d’autrefois est venu me saisir à la gorge, et j’ai parfaitement compris ce qu’éprouve un vieillard, en retrouvant par hasard son portrait de jeune homme. — Le temps! Le temps! Ce mot résume tout.
Ma chatte chérie, tu as beau me rassurer sur ta santé! Je ne saurais m’y fier aussi longtemps qu’il peut être question de cette sacrée ankylose. Eh bien? Et ton projet d’aller consulter les médecins de Paris? Y persistes-tu? Ou n’était-ce qu’une boutade? J’attends sur tout cela des révélations complètes dans ta première lettre que j’aime à supposer très proche du terme de ton voyage. C’est à Stieglitz, n’est-ce pas, que tu l’as adressée.
Quant à moi, encore une fois, je ferai tout mon possible pour partir d’ici au plus tôt, et j’espère que ce sera dans une quinzaine de jours. Si d’ici-là je suis converti de tes lettres, je te promets de prendre la voie de terre, sinon j’irai par Lübeck.
Embrasse les enfants. J’embrasse Marie — tâche de lui faire comprendre que je m’attends à mon arrivée à être salué par elle par un petit fonds de phrases françaises. Je me plais à croire Anna à l’heure qu’il est aussi sereine qu’elle peut le souhaiter et je me représente Dimitri aussi bien que tu le désires. — Ah, quand te verrai-je?
Перевод
Милая кисанька, я пишу нарочно большими буквами — Петербург. 26 августа 1843 г., — чтобы заставить тебя буквально убедиться, насколько уменьшилось чудовищное пространство, разделяющее нас. Да, моя славная, я уже три дня в Петербурге, в настоящем европейском потоке, вновь среди его гула и шума, среди которого я даже могу различить слабенький звук маленькой Казимиры. Не правда ли мило? Ты не поверишь, как приятно на расстоянии в 300 верст почувствовать Казимирино присутствие. Это дружеское воспоминание, от которого повеяло теплом, пришло ко мне благодаря любезному Карденосу.
Другое дружеское и подкрепляющее впечатление, хотя и несколько иного рода: в самый день моего отъезда, за два часа перед тем как я собирался садиться в коляску, судьба благосклонно вручила мне твое письмо от 3 августа. Оно прибыло вовремя, потому что мое ожидание уже стало превращаться в тревогу и к тому же я нуждался в вознаграждении за 3 дня ужасного существования, когда я был заперт в дилижансе. Так что это письмо было долгожданным, и хотя оно, не в обиду тебе будь сказано, оказалось одним из самых холодных и сдержанных твоих писем, все же таково страшное пристрастие человеческого сердца, что, получив этот клочок бумаги, я почувствовал, что он для меня дороже всего того, что я оставлял. И однако я покидал очень уютный, очень симпатичный мир. Прощание с моими добрыми стариками было самым нежным, а с матерью мне особенно тяжело было расставаться. Некоторая чувствительность теперь, почти в старости, становится бессмыслицей.
Вся семья провожала меня до дилижанса, и появление моей матери в таком месте было для нее неслыханным и невиданным доселе делом. Нет нужды тебе говорить, утром в день моего отъезда — это было воскресенье, — состоялся непременный молебен, после чего мы посетили одну из самых почитаемых в Москве часовен, где находится чудотворная икона Иверской Божией Матери. Словом, все прошло в самом строгом православном духе. Конечно, тому, кто приобщается к нему лишь мимоходом, кто берет из него только то, что нравится, в этих глубоко исторических формах, в этом русско-византийском мире, где жизнь и вера составляют единое целое, столь древнем, что даже сам Рим сравнительно с ним отдает новизной, во всем этом для того, кто умеет чувствовать такие вещи, открывается величие несравненной поэзии, величие, покоряющее самую ожесточенную враждебность, ибо к чувству столь древнего прошлого неизбежно присоединяется предчувствие грандиозной будущности. Я буду вечно сожалеть о том, что не смог показать тебе Москву. Как бы ты, с твоей натурой, самой умной из всех человеческих натур, смогла быстро и верно понять ее внутреннюю суть.
Но, чтобы переменить тон, поговорим немного о делах, непосредственно касающихся моей бренной особы. Вот я и в Петербурге, в несколько подвешенном состоянии относительно моих планов, ибо, по правде говоря, я не вижу, чего, собственно, мне здесь искать, кроме разве что заграничного паспорта. Должен ли я просить о возвращении на службу с причислением к мюнхенской миссии? Но это, на мой взгляд, бессмысленно, так как это будет зависимость со всеми вытекающими из нее неудобствами и без единого преимущества. Я знаю, что таково было бы желание Северина, и с ним согласен мой брат. Но ни тот, ни другой не убедили меня. Дело в том, что должности, которая могла бы мне подойти, я уже не вправе просить, а все остальное только бы усугубило мое положение вместо того, чтобы улучшить его.
С другой стороны, жить здесь в ожидании благоприятного поворота судьбы так же нелепо, как и всерьез полагаться на выигрыш в лотерее. Притом у меня нет лишних средств, ни тем более желания застрять здесь навечно в ожидании подобного чуда. Так что я смирился с тем, что не сумею извлечь иной выгоды из моего пребывания в Петербурге, кроме попытки оформить мою отставку, и сразу после этого выправлю заграничный паспорт. Но беда в том, что даже для осуществления столь скромной программы я не имею под рукой нужных посредников. Крюденеры в Петергофе, я думаю навестить их там завтра или послезавтра. Великая княгиня Мария Лейхтенбергская тоже находится там, но она еще не оправилась после родов да к тому же пребывает в горе и слезах после смерти старшей дочери1. Бедная молодая женщина! О том, что ее девочка умерла, она известилась от государя в самый день похорон, это был десятый день после родов. Готов поклясться, милая кисанька, что ты в эту минуту, узнав о смерти ребенка, подумала о том же, что и я.
Но мною начинает овладевать нетерпение. Я останавливаюсь и заканчиваю письмо. Я не могу ничего ни требовать, ни ждать. И однако я знаю, что по возвращении в Мюнхен меня одолеют угрызения совести, будто я упустил королевскую удачу. Тем не менее поездка не была бесплодной, поскольку принесла мне, по всей вероятности, 10–12 тысяч ренты. И я не понимаю твоих возражений по этому поводу. Как ты можешь предпочитать старый порядок вещей, то есть ничего, — новому устройству дел? И как бы я мог избежать зависимости от брата, в какую я неизбежно попадаю, если только сам не поселюсь в деревне и не займусь хозяйством? Впрочем, могу ли я всерьез полагать его способным украсть у меня мою долю имущества, которое нам дано в общее владение? И какое иное устройство дел мог бы я предложить?
Здесь, в Петербурге, я оказался в среде мюнхенских дипломатов — Коллоредо, Колобиано, Карденоса, ноздреватого Вехтера, Оттерштедта2 и пр. А вчера на большом балу в 7 верстах от города, где я из-за расписания железной дороги принужден был оставаться до 4 часов утра, — я встретил хорошенькую г-жу Кутузову, по-прежнему худощавую и привлекательную, бывшую м-ль Полтавцову и толстую графиню Кутайсову3, которую ты так мало ценила в Генуе и которая теперь дружески расспрашивала о тебе. Воспоминания о Европе возникают здесь на каждом шагу. И это действует как оптический обман, вводящий в заблуждение относительно расстояний.
Тем же числом
Будь неладно это писанье! Какая нелепая мистификация — эти письма! Как должен быть и глуп и банален и бестолков тот, кто первым выдумал, будто в письмах можно разговаривать. Это все равно что отправиться в длительное путешествие, прыгая на одной ноге. Вот и я исписал четыре больших страницы, не сказав ни единого слова о том, что меня по-настоящему волнует, то есть не сказав ни слова, имеющего отношение к тебе. Я подсчитал в тот день, когда уезжал из Москвы, что в тот самый день, 20 августа, ты приедешь в Мюнхен. Ах, когда настанет тот час, когда ты увидишь, как моя скверная физиономия неожиданно возникнет перед тобой. Знай, мой славный друг, что разлука доводит меня до крайнего исступления, что я слишком долго тебя не видел и страдаю от этого лишения. Говорю тебе это с полным забвением собственного достоинства, потому что знаю, что в настоящее время не могу более рассчитывать на твою взаимность. Я это знаю. Я это чувствую.
Но неважно. Я слишком стар, чтобы снова начать любить — так или иначе надобно привыкать довольствоваться дружбой, пусть даже взаимной, если уже не достоин большего. Что касается до меня, знаешь, чтобы быть совершенно чистосердечным, должен сказать тебе, что по-настоящему я люблю одну тебя на всем свете, все остальное только второстепенное, все остальное находится вне меня, в то время как ты — это я сам, и моя привязанность тем более настоящая, что происходит из чистого эгоизма.
Так, читая твое последнее письмо, в котором ничто не выдает горечи от разлуки, я вспомнил о твоих прежних письмах и у меня перехватило горло, я вполне осознал, что чувствует старик, случайно обнаруживший свой юношеский портрет. — Время! Время! Это слово вмещает в себя все.
Милая кисанька, ты напрасно успокаиваешь меня насчет твоего здоровья! Я не могу быть спокойным, пока речь идет о проклятом анкилозе. И что же твой план поехать в Париж, чтобы посоветоваться с тамошними докторами? Ты не отказалась от него? Или это всего лишь мимолетная прихоть? Я жду полных разъяснений по этому поводу в твоем ближайшем письме, которое надеюсь получить скоро после твоего возвращения. Ты ведь послала его на имя Штиглица, не так ли?
Что касается до меня, повторяю, я сделаю все возможное, чтобы уехать отсюда как можно скорее, и надеюсь, что это произойдет недели через две. Если я буду побуждаем твоими письмами, то обещаю тебе отправиться наземным путем, в противном случае я поеду через Любек.
Обними за меня детей. Я обнимаю Мари — постарайся внушить ей, что к моему возвращению я жду, что она будет владеть небольшим запасом французских фраз, чтобы поприветствовать меня. Надеюсь, что Анна в настоящее время в самом безмятежном расположении духа, какого только она может пожелать, и воображаю Дмитрия в таком цветущем виде, какого ты для него желаешь. — Ах, когда же я тебя увижу?
КОММЕНТАРИИ:
Печатается впервые по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 18. Л. 12–15 об.
1 23 июля 1843 г. у вел. кн. Марии Николаевны родился сын Николай Максимилианович, трехлетняя дочь Александра умерла 31 июля этого же года.
2 Гр. Ф. Коллоредо-Вальдзее, австрийский посланник в Мюнхене (1834–1843) и Петербурге (1843–1847); гр. А. Авогадро ди Колобиано, сардинский посланник в Мюнхене (1829–1838) и Петербурге (1843–1849); Вехтер, вюртембергский посланник в Мюнхене, затем в Петербурге (1843); бар. Ф. Оттерштедт, советник прусской миссии в Петербурге (1843–1849); о Карденосе сведений нет.
3 Вероятно, речь идет о гр. С. А. Голенищевой-Кутузовой, жене гр. генерал-лейтенанта, генерал-адъютанта В. П. Голенищева-Кутузова; гр. Е. Н. Адлерберг, бывшей фрейлине, вышедшей замуж за гр. А. В. Адлерберга, друга детства императора Александра II, впоследствии министра двора; гр. Н. А. Кутайсовой, дочери президента Московской дворцовой палаты, обер-гофмейстера, сенатора кн. А. М. Урусова, жене И. П. Кутайсова.
* 1 слово утрачено, бумага порвана под нажимом пера.