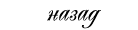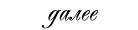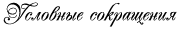Ф.И. ТЮТЧЕВ. Письма
Эрн. Ф. Тютчевой
14/26-15/27 июля 1843 г. Москва
Moscou. Ce 26 juillet 1843
Ma chatte chérie. J’avais bien raison de penser que l’explosion de mon humeur hâterait l’arrivée de ta lettre. Car cette chère lettre du 8 si impatiemment attendue, je l’ai reçue hier, deux heures après avoir fait porter la mienne à la poste. C’est ma mère qui est venue me la remettre en triomphe. J’ai bien sincèrement maudit, tu peux m’en croire, ce nouvel accès de tes sacrés rhumatismes qui ont eu la lâcheté de s’attaquer à toi, même en mon absence, et je suis parfaitement de ton avis qu’il faut leur faire une guerre à outrance, une guerre d’extermination. Aussi j’approuve très fort l’idée du voyage à Paris. Mais je prétends que tu ne l’entreprennes qu’à mon retour à Munich qui d’ailleurs ne se fera guères attendre, car je compte bien, Dieu aidant, pouvoir te rejoindre dans le courant de septembre.
Maintenant il serait à propos, je pense, de te donner quelques détails sur mon séjour d’ici. Tu sais que nous sommes arrivés ici le 8, précisément le jour, où tu as écrit ta lettre. Je ne hais pas ces coïncidences. Père et mère, prévenus depuis plusieurs jours de notre arrivée, avaient loué pour nous dans la maison, qu’ils occupent, un appartement au rez-de-chaussée1 composé de trois chambres assez jolies, assez proprettes pour nous et d’une quatrième pour le fidèle Brochet, attenante à la mienne. La maison est située dans un quartier de la ville qui correspond parfaitement aux faubourgs extérieurs à Paris. C’est moins délabré toutefois et plus campagne. Nous avons voiture et chevaux à notre disposition absolue et exclusive.
Ma sœur et son mari demeurent dans le voisinage2 et je dois convenir que j’ai été agréablement surpris du confort et de l’élégance de leur intérieur. Ils font d’ailleurs très bonne chère, et toute la famille y dîne deux ou trois fois par semaine. Mais même la cuisine paternelle s’est quelque peu améliorée, je t’ai déjà dit que le beau-frère s’est complètement réhabilité dans mon esprit. Il s’est montré très util et très secourable dans la grande affaire que nous venons de terminer, et la manière dont il s’y est employé suffirait seule pour conjurer tous les soupçons que j’avais conçu contre lui. C’est d’ailleurs un homme d’esprit et d’une vitalité inépuisable. Quant à ma sœur, qui se recommande tout naturellement à ton intérêt par la ressemblance qu’on dit très grande entr’elle et moi, est en ce moment dans la lune de miel de sa maternité. Son enfant l’absorbe entièrement et promet de devenir un gros garçon, pas joli, mais très robuste. Ma mère est toujours, comme tu l’as pressenti, roulée en boule sur son canapé. Je lui ai lu la phrase qui la concerne dans ta lettre, et elle y a été fort sensible. Elle me questionne beaucoup sur ton sujet et sympathise avec toi ses paroles. Sa chimère, c’est de te voir un jour en chair et en os, arrivant chez eux à la campagne avec Mlle Marie et Dmitri ou plutôt arrivant chez toi, car te voilà devenue, sans t’en douter, propriétaire terrienne en Russie, maîtresse absolue de quelques trois à quatre cents paysans. Ma pauvre mère me fait vraiment de la peine. Il est impossible d’aimer ses enfants avec plus d’humilité qu’elle ne fait. C’est à peine si elle se permet d’exprimer le vœu de voir mon séjour se prolonger parmi eux, et elle fait semblant de croire, plutôt qu’elle ne croit en effet aux espérances que je lui donne d’une nouvelle entrevue pour l’année prochaine. Quant à mon père, il a mis tant de bonne grâce dans la cession qu’il vient de nous faire qu’il a entièrement justifié l’opinion que j’avais toujours qu’il n’y avait dans sa conduite à notre égard qu’un malentendu résultant de notre longue absence et de nos paresses respectives. Je le trouve moins vieilli, moins affaissé qu’il ne m’a paru au premier moment. Ses goûts et ses allures sont toujours les mêmes et offrent toujours la même prise au sarcasme de mon frère. C’est lui, pauvre garçon, que je plains de toute mon âme, car le voilà obligé de se réjouir et de se montrer reconnaissant d’un arrangement qu’il accepte, au fond du cœur, comme un arrêt d’exil. Ta sagacité ordinaire ne t’a pas trompé quand tu me soutenais que le séjour en Russie lui était plus contraire encore qu’à moi. Il en est ainsi en effet. Lui, si peu difficile à l’étranger sur le chapitre de l’élégance et du confort, se montre ici d’une exigence implacable, il déploie une verve de dépréciation qui serait remarquable même dans le feuilleton littéraire. En revanche il est tout tendresse et tout affection pour les marques de souvenir qui lui viennent de toi, et tel est le besoin qu’il éprouve de se rattacher à la vie qu’il a mené auprès de nous, qu’en me parlant des travaux qu’il va entreprendre à la campagne, il ne manque jamais d’y mêler l’idée de l’avenir de Dmitri et se complait dans la supposition de la belle fortune que lui et moi nous lui laisserons un jour. Il s’est fait lui lire hier ta lettre toute entière, et tu ferais une chose aimable, en lui en écrivant une, comme tu sais les écrire, quand tu es en verve de gracieuseté. Tu ferais bien d’y ajouter aussi quelques mots pour maman et pour ma sœur. Mais c’est probable que ce chef-d’œuvre ne me trouvera plus à Moscou.
En dehors de la famille il y a des tantes, des cousines, etc. etc., qui au premier moment avaient surgi comme des fantômes, mais qui petit à petit ont révélé les formes et les couleurs de la réalité. J’ai retrouvé aussi parmi mes camarades d’université quelques hommes qui se sont fait un nom dans la littérature et sont devenus des hommes réellement distingués3. Le soir nous allons souvent au théâtre. Il y a ici une troupe française passable et une troupe russe, tellement bonne que j’en ai été confondu de surprise. Paris excepté, il n’y a certainement pas une troupe à l’étranger qui puisse rivaliser avec celle-ci. Cela tient évidemment à la race, car j’ai retrouvé la même supériorité de jeu dans les acteurs du théâtre polonais à Varsovie.
Ce 27. Jeudi.
Ma chatte chérie, me voilà de nouveau occupé à t’écrire. Mais l’idée qu’il y a 18 jours et plus de la moitié de l’Europe entre le bec de ma plume et le premier regard que tu laisseras tomber sur ces lignes, cette conviction est plus que saisissante pour glacer une veine épistolaire, comme la mienne. Il faut à la pensée de l’homme une ferveur presque religieuse pour ne pas se laisser accabler à cette terrible idée de la distance. Hier, en te quittant, je suis allé dîner au club. Il y a ici plusieurs clubs dans le genre de ceux de Londres et dont quelques-uns sont montés sur un pied tout à fait grandiose. On y dîne, on y joue aux cartes et on y trouve une collection de journaux russes et étrangers, livres, brochures, etc. Ce sont en ce moment les seuls points de réunion qu’il y ait, car la plus grande partie de la société a déjà quitté la ville. Le théâtre est peu suivi, les promenades sont aussi peu, bien qu’il y en ait des charmantes. Mais c’est la ville elle-même, la ville dans son immense variété que je voudrais pouvoir te montrer, toi qui vois tout, que de choses ne verrais-tu pas ici! Comme tu sentirais d’influent, ce que les anciens appelaient le génie du lieu, planant sur cet entassement grandiose des choses les plus variées, les plus pittoresques. Il y a je ne sais quoi de puissant et de serein, répandu sur cette ville.
Peste soit des interruptions. Il y a eu entre cette ligne et la précédente une visite paternelle qui a duré une heure et demie et qui a mis en complète déroute toutes les belles choses que j’avais à te dire.
Ma chatte chérie, quand tu recevras cette lettre, je serai sur le point de quitter Moscou. Ainsi je préviens qu’à partir du 15 août tu feras bien de m’adresser tes lettres à Pétersbourg, en les recommandant à Stieglitz. Ici tout conspire à abréger mon séjour, et je crois que mon père lui-même tout affligé qu’il sera de me voir partir, attend avec quelque impatience le moment où il pourra s’en aller d’ici. J’ignore, combien de temps je resterai à Pétersbourg. Cela dépendra des chances que j’y rencontrerai. Dans tous les cas j’espère et je compte y avoir fini mes affaires assez tôt pour être rendu à Tegernsee bien avant l’époque que tu as fixée pour entreprendre ton voyage de Paris. Je te défends par conséqu<ent> de songer à le faire seule. En attendant, soigne bien ta santé, cette sacrée santé qui te débraie chaque instant. Mille tendresses les plus tendres à ton frère et à sa femme. Il est entendu qu’elles sont accompagnées de tant de vœux pour l’excellent résultat de la grossesse4. Mes hommages à Casimire et ajoute y, je te prie, quelque phrase spirituellement tendre que j’ai pas le temps d’élaborer. J’avais encore un volume des choses dans la plume, mais grâce à l’interruption elles s’y sont desséchées. Il n’y reste que deux baisers bien paternels pour Marie, le Herzblättchen, et un autre pour Dmitri. Tout à toi, ma chatte.
Перевод
Москва. 26 июля 1843
Милая моя кисанька, я был прав, предполагая, что взрыв моей досады ускорит прибытие твоего письма. Ибо драгоценное письмо твое от 8 числа, столь долгожданное, я получил вчера, два часа спустя после того, как отправил свое на почту. Мне с торжественным видом вручила его маминька. От души проклинаю, можешь мне поверить, новый приступ несносного ревматизма, который имел подлость напасть на тебя даже в мое отсутствие, и вполне согласен с тобою, что ему надо объявить войну насмерть, войну на полное уничтожение. А потому вполне одобряю твое намерение съездить в Париж. Но мне хочется, чтобы ты не уезжала раньше моего возвращения в Мюнхен, что, кстати сказать, произойдет довольно скоро. Ибо я надеюсь с Божьей помощью вернуться к тебе в сентябре.
Теперь уместно, думается мне, сообщить тебе некоторые подробности относительно моего житья здесь. Как тебе известно, мы приехали сюда 8-го, как раз в тот день, когда ты написала мне письмо. Это совпадение мне более чем приятно. Родители, предуведомленные о нашем приезде за несколько дней, сняли для нас в своем же доме квартиру в первом этаже1, о трех довольно хороших и чистых комнатах для нас, да еще с четвертою для верного Щуки; его комната примыкает к моей. Околоток, в котором находится дом, очень напоминает парижский пригород, но не столь убог и больше похож на деревню. В нашем полном и безраздельном распоряжении имеется экипаж и лошади.
Сестра моя с мужем живет по соседству2, и, должен признаться, меня приятно поразили комфорт и изящество их обстановки. К тому же они любят хороший стол, так что два-три раза в неделю у них обедает вся семья. Но и отцовская кухня несколько усовершенствовалась. Я тебе уже писал, что мой зять вполне реабилитирован в моем представлении. Он был очень полезен и услужлив в том важном деле, которое мы только что завершили, и одного того, как он предлагал свои услуги, было бы достаточно, чтобы отмести все подозрения, которые у меня зародились против него. Помимо всего, это человек большого ума и неисчерпаемой жизнестойкости. Что до сестры, которая вполне естественно должна интересовать тебя, раз по всеобщему мнению между мной и ею такое большое сходство, — то она в настоящее время переживает медовый месяц материнства. Ребенок поглощает ее всю целиком, он обещает стать со временем, может быть, и не красивым, но очень крепким мальчиком. Мать моя, как ты и предполагала, большею частью лежит, свернувшись на диване. Я прочел ей из твоего письма слова, относящиеся к ней, и она была ими весьма тронута. Она много расспрашивает о тебе и полюбила тебя по моим рассказам. Ее мечта — увидеть тебя в один прекрасный день во плоти, когда ты приедешь к ним в деревню вместе с м-ль Мари и Дмитрием, или, вернее, приедешь к себе, ибо теперь ты, сама того не ведая, стала русской землевладелицей, неограниченной властительницей трех-четырех сотен крестьян. Мне, право, очень жаль мою бедную мать. Невозможно любить своих детей с большим смирением, нежели она. Она едва решается высказать пожелание, чтобы я подольше побыл возле них, и не столько верит, сколько делает вид, что верит моим обещаниям опять свидеться с ними в будущем году. Что до отца, то он проявил в деле о наследстве столько обходительности, что вполне оправдывает мое всегдашнее о нем мнение, а именно, что его отношение к нам было простым недоразумением, и вызвано оно было нашим долгим отсутствием и присущей нам леностью. Я нахожу его теперь не таким старым, не таким слабым, каким он казался первое время. Его вкусы и привычки все те же и по-прежнему дают моему брату повод к язвительным насмешкам. Его-то, беднягу, я от души жалею, ибо ему приходится радоваться и благодарить за решение, принятое в отношении его, которое он в глубине души принимает как приговор к ссылке. Обычная твоя проницательность не обманула тебя, когда ты уверяла меня, что жизнь в России будет ему еще неприятнее, чем мне. В действительности так оно и есть. Столь нетребовательный за границей в отношении роскоши и удобств, он проявляет здесь во всем такие высокие требования и так страстно все осуждает, что даже в литературном фельетоне это бросилось бы в глаза. Зато он с большой нежностью и теплотой встречает каждое доказательство того, что ты его не забываешь; его стремление сохранить связь с тою жизнью, которую он вел возле нас, настолько в нем сильно, что, говоря о работах, которые он собирается предпринять в деревне, — он никогда не упускает случая упомянуть о будущности Дмитрия и любит высчитывать прекрасное состояние, которое мы с ним со временем Дмитрию оставим. Вчера он попросил прочесть ему твое письмо от начала до конца, и с твоей стороны будет очень мило, если ты как-нибудь напишешь ему одно из тех любезных писем, какие ты умеешь писать, когда бываешь в ударе. Хорошо было бы добавить к письму несколько строк для маминьки и для сестры. Но возможно, что этот шедевр уже не застанет меня в Москве.
Помимо семьи, имеются еще тетки, кузины и пр. и пр., которые в первое время всплывали передо мной как призраки, но мало-помалу они снова приняли обличье и оттенки действительности. Я встретил также несколько университетских товарищей, среди которых иные составили себе имя в литературе и стали действительно выдающимися людьми3. По вечерам часто бываем в театре. Здесь есть сносная французская труппа и столь хорошая русская, что я был поражен. Исключая Париж, нигде за границей нет труппы, которая могла бы соперничать с нею. Это, вероятно, расовая особенность, ибо такое же мастерство игры я наблюдал в польском театре в Варшаве.
27-го. Четверг
Милая моя кисанька, вот я снова пишу тебе. Но мысль, что между кончиком моего пера и первым взглядом, который ты бросишь на эти строки, простираются целых 18 дней и пол-Европы, — мысль эта более чем достаточна, чтобы охладить писательский пыл вроде моего. Человеческая мысль должна отличаться почти что религиозным рвением, чтобы не быть подавленной страшным представлением о дали. Вчера, расставшись с тобою, я пошел в клуб обедать. Здесь имеется несколько клубов в духе лондонских и некоторые из них поставлены прямо-таки на широкую ногу. Тут и обедают, и играют в карты; есть тут и целое собрание русских и заграничных газет, книг, брошюр и т. д. В настоящее время только в клубах и собираются. Ибо большая часть общества уже выехала из города. Театр посещается мало, также мало народу и на местах гуляния, хоть среди них есть и очень приятные. Но больше всего мне хотелось бы показать тебе самый город в его огромном разнообразии. Ты, умеющая разглядеть все, — чего бы ты только не высмотрела здесь. Как бы ты почуяла наитием то, что древние называли гением места, он реет над этим величественным нагромождением, таким разнообразным, таким живописным. Нечто мощное и невозмутимое разлито над этим городом.
Будь неладны все, кто мешает разговору! Между этой строкою и предыдущею состоялся отцовский визит, продлившийся полтора часа и совершенно рассеявший все прекрасное, что я собирался сказать тебе.
Моя милая кисанька, когда ты получить это письмо, я буду уже собираться к отъезду из Москвы. Итак, предупреждаю тебя, что с 15 августа письма мне лучше посылать в Петербург, поручая их Штиглицу. Тут все словно сговорилось, чтобы сократить мое здешнее пребывание, и мне кажется, что даже отец, хоть и будет огорчен моим отъездом, с нетерпением ждет дня, когда сможет уехать отсюда. Не знаю еще, сколько времени пробуду я в Петербурге. Это будет зависеть от того, какие возможности мне там откроются. Во всяком случае, я надеюсь и рассчитываю покончить с делами пораньше, чтобы приехать в Тегернзее задолго до срока, который ты наметила для поездки в Париж. Следственно, я запрещаю тебе уезжать без меня. А пока береги свое здоровье, злополучное здоровье, расстраивающееся то и дело. Передай самый нежный привет своему брату и его жене. Привет, само собою разумеется, сопровождается самыми сердечными пожеланиями относительно благополучного исхода ее беременности4. Привет Казимире, да прибавь к нему, прошу тебя, несколько остроумно-ласковых слов, которые мне недосуг придумывать. На кончике пера у меня было еще множество вещей сказать тебе, но благодаря помехе они высохли. Осталось только два истинно отеческих поцелуя — один для Мари, Herzblättchen,* другой — для Дмитрия. Весь твой, моя кисанька.
КОММЕНТАРИИ:
Печатается впервые на языке оригинала по автографу — РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 18. Л. 9-11.
Первая публикация в русском переводе — Изд. 1980. С. 62–64.
1 И. Н. и Е. Л. Тютчевы жили в доме М. М. Крезовой (Садовая-Триумфальная, 25; не сохранился).
2 Д. И. и Н. В. Сушковы жили в доме А. И. Милютина в Старопименовском переулке (ныне д. 11).
3 Тютчев в этот приезд встречался в Москве со своим университетским товарищем М. П. Погодиным, издававшим с 1841 г. журнал «Москвитянин», в их беседах о славянском вопросе обнаружилась близость исторических концепций, основанных на идеях панславизма. Впоследствии Погодин писал в своей записке «Воспоминание о Ф. И. Тютчеве»: «Услышав его в первый раз, после всех странствий, заговорившего о славянском вопросе, я не верил ушам своим; я заслушался его, хоть этот вопрос давно уже сделался предметом моих занятий и коротко был мне знаком. Как в самом деле мог он, проведя молодость, половину жизни за границей, не имев почти сообщения с своими, среди враждебных элементов, живущий в чуждой атмосфере, где русского духа редко бывало слышно, как мог он, барич по происхождению, сибарит по привычке, ленивый и беспечный по природе, ощутить в такой степени, сохранить, развить в себе чистейшие русские и славянские начала и стремления?» (ЛН-2. С. 24–25).
Кроме того, Тютчев посещал салон А. П. Елагиной, встречался с П. Я. Чаадаевым (см.: Летопись 1999. С. 262).
4 В 1843 г. родился сын Карла и Каролины Пфеффелей — Гюбер.
* сердечного дружка (нем.).