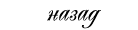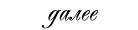Вадим Кожинов «Тютчев»
(из серии Жизнь замечательных людей)
Глава девятая. ПОЭЗИЯ, ЛЮБОВЬ, ПОЛИТИКА
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!..
Петербург, 1850
Поэзия и любовь — это понятно, но при чем тут политика? Так могут подумать многие. Однако для Тютчева — ив этом он в самом деле принадлежит к очень немногим (другой величайший русский писатель такого же склада — Достоевский) — политика естественно врастала в наиболее захватывающую и сокровенную глубь переживаний. Так было уже хотя бы потому, что поэт видел в любом существенном политическом событии новое, современное, сегодняшнее звено Истории во всем ее размахе.
До нас дошла замечательная тютчевская фотография начала 1850-х годов, которая воспроизведена в книге. Перед нами лицо, или, пожалуй, уместнее будет сказать — лик поэта-мыслителя, покоряющий зримо запечатленной на нем глубиной и высотой духа. Вместе с тем перед нами прекрасное, исполненное спокойной силы лицо мужчины, мужа в жизненном расцвете (хотя Тютчеву было уже около пятидесяти лет); вглядываясь в него, понимаешь, сколь естественна была вспыхнувшая незадолго до того беспредельная любовь Елены Денисьевой к этому, бывшему в два раза ее старше, человеку. Все более ранние изображения Тютчева явно уступают данной фотографии даже и с точки зрения того, что называется мужской красотой.
Но вглядимся в одну деталь портрета, которую трудно заметить сразу, ибо лицо властно притягивает к себе все внимание. В правой руке поэта — газета, от которой он явно только что поднял глаза. Известны стихи Марины Цветаевой, саркастически клеймящие «читателей газет» вообще; поэтесса упустила, что такие люди, как Тютчев или Достоевский, поистине не могли жить без газет, ибо должны были повседневно слушать бьющийся в них живой пульс мировой истории. И, как мы увидим, политика (и в том числе газеты как таковые) неотделима и от поэзии Тютчева, и даже от самой его любви…
Уже говорилось, что в 1849 году, после окончательного «возвращения» поэта на родину, наступил новый расцвет его творчества. В течение предшествующих десяти лет он почти ничего не написал, — и вот для него словно началась вторая молодость. Более того, в 1849–1852 годах его творческое напряжение, пожалуй, было более значительным, чем в конце 20-х — начале 30-х. К тому же новый период в развитии поэта коренным образом отличался от прежнего.
Отличие это — очень сложное и многозначное, но нельзя не охарактеризовать его здесь хотя бы в самых основных чертах, ибо в нем воплотилось целостное развитие Тютчева как человека, мыслителя, гражданина.
Если попытаться сказать о различии ранней и поздней поэзии Тютчева наиболее кратко, можно сформулировать его суть так: раннее творчество поэта проникнуто мировым, космическим, вселенским духом, а в поздний период на первый план выходят стихии человечности и народности (хотя в то же время тютчевская поэзия вовсе не утрачивает своей всемирности).
В порядке первого приближения к сути дела такое разграничение уместно. Оно, это разграничение, может быть отчетливо подтверждено тютчевским стихотворением, написанным 28 июля 1852 года и обращенным к Елене Денисьевой:
Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.
Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворен,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен…
Строфы эти явно перекликаются с целым рядом стихотворений конца 20-х — 30-х годов, утверждавших всецело одухотворенное бытие Природы: «Весенняя гроза», «Снежные горы», «Успокоение», «Полдень», «Над виноградными холмами…», «Летний вечер», «Нет, моего к тебе пристрастья…», «Весна» и др. Выше шла речь о своего рода полемическом гимне: «Не то, что мните вы…», где о природе сказано:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
Самый смысл человеческого бытия поэт в императивной форме определял так (стихи 1838 года):
…ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!
Казалось бы, в стихотворении «Сияет солнце…», написанном через тринадцать лет, опять-таки воспет «сей животворный океан» — «цветущий мир природы», упоенный «избытком жизни». Однако третья, последняя строфа говорит совсем иное:
Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей…
Оказывается, что одна умиленная улыбка одного человека перевешивает весь этот «цветущий мир природы», в котором — «на всем улыбка»… Стихотворение словно прямо противопоставлено одному из самых основных мотивов раннего творчества поэта.
Можно бы предположить, что столь кардинальное преобразование в сфере ценностей определила последняя любовь поэта, ибо стихотворение — о ней. Но это не так. Глубокий переворот в творчестве Тютчева совершился несколько раньше. В свете всего позднего творчества поэта начало этого переворота можно увидеть уже в стихотворении об Овстуге: «Итак, опять увиделся я с вами…», о котором мы подробно говорили. Смысл стихотворения еще двойствен; восклицая, Ах нет, не здесь, не этот край безлюдный Был для души моей родимым краем — Не здесь расцвел, не здесь был величаем Великий праздник молодости чудной, — поэт утверждает тот «великий праздник» как ценность, которой вроде бы нечего противопоставить. И все же в движении, в самой мелодике стиха таится неотвратимое вопрошание: а как же быть с «краем безлюдным»?
Стихотворение это было создано 13 июня 1849 года в Овстуге — на седьмой день после приезда в родную усадьбу. Тютчев в то лето долго не мог расстаться с Овстугом, что было для него необычно. Многое раскрывает письмо Эрнестины Федоровны брату, написанное в Овстуге через месяц, 13 июля: «Мы находимся здесь с 7/19 июня и в полной мере наслаждаемся жизнью среди полей и лесов… Ничто не мешает нам чувствовать себя обитателями некой печальной планеты, которая вам, прочим обитателям Земли, неизвестна. И самое невероятное, что вот уже пять недель мой несчастный муж прозябает на этой мирной и тусклой планете, — это он-то, столь страстный любитель газет, новостей и треволнений! Что вы думаете об этой аномалии?»
Трудно переоценить значение тогдашнего пребывания в Овстуге для духовной жизни поэта. Именно там, по-видимому, он написал стихотворение «Русской женщине», названное при первой его, анонимной, публикации (апрель 1850 г.): «Моей землячке». Стихотворение это нередко толкуется только как своего рода «разоблачение», но надо все же вслушаться в высшую, несказанную красоту поэтического слова и ритма — особенно во второй строфе.
Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои…
И жизнь твоя пройдет незрима,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле.
Первая строфа говорит о том, что не будет «великого праздника» с его солнцем, пышной природой, светским блеском, искусством, цветущей жизнью и любовью… Но во второй строфе о жизни, которая пройдет, незрима, в краю безлюдном, — уже отчетливо проступает иное начало, нашедшее свое полное воплощение позднее, в тютчевском стихотворении 1861 года, в сущности, заново претворяющем ту же поэтическую тему, но раскрывающем ее уже как подлинное средоточие высшей ценности:
Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года,
Как перед утренним лучом
Первоначальных дней звезда
Уж тонет в небе голубом…
И все еще была она
Той свежей прелести полна,
Той дорассветной темноты,
Когда незрима, неслышна
Роса ложится на цветы…
Вся жизнь ее тогда была
Так совершенна, так цела
И так среде земной чужда,
Что, мнится, и она ушла
И скрылась в небе, как звезда.
(ср.: «И жизнь твоя пройдет незрима… Как исчезает облак дыма…»; только «облак» претворился теперь в утреннюю звезду).
В стихотворении «Сияет солнце, воды блещут…» уже было дано противопоставление великому празднику природы, который «избытком жизни упоен»:
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья…
Иерархия ценностей принципиально изменилась; в мире есть, оказывается, нечто безусловно высшее, чем праздник…
Тютчевская поэзия 30-х годов вся была, если угодно, празднична — празднична и в ее самых драматических, даже трагедийных проявлениях:
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
Раннее творчество поэта утверждает это праздничное величие человека, открыто соотнесенного с целой Вселенной: По высям творенья, как бог, я шагал…
И легко может показаться, что в поздней тютчевской поэзии человек решительно сведен с этих высей. Он предстает в ней как явно не всесильный, как заведомо смертный. И столь же легко прийти к выводу, что жизнь-де сломила поэта, и он, мол, уже не способен причаститься к «животворному океану» Вселенной, не может гордо и радостно возгласить:
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
Так говорил поэт около 1830 года. Через двадцать лет, в 1850 году, он создает одно из величайших своих — и общечеловеческих — творений, «Два голоса»:
I
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.
Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец…
Для них нет победы, для них есть конец.
Поэт как бы прямо возражает самому себе; оказывается, человеку и невозможно, и незачем идти на пир к олимпийцам. Тем более, что о том же самом говорит не только первый, но и второй «голос» стихотворения:
II
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба…
Но прежде чем вслушаться в последнюю строфу, вернемся к стихотворению «Цицерон» («Счастлив, кто посетил сей мир…»). Что оно воспело? Оно утверждало великий «праздник» человека, призванного самими олимпийцами на пир, ставшего зрителем их высоких зрелищ, допущенного в их совет и даже, как небожитель, пившего бессмертье из их чаши.
В последней строфе стихотворения 1850 года все проникновенно преображено: теперь как раз олимпийцы становятся зрителями, а человек, никем не призванный и не допущенный, сам по себе (а не играя чужую роль — «как небожитель») пьет роковую, жестокую, но свою чашу и «вырывает», а не получает в виде поощрения венец победы:
Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец,
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.
Много позже поэт в стихотворении на смерть Елены Денисьевой увидит в судьбе этой женщины то же самое величие и скажет о своей «муке вспоминанья»:
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить…
Это, разумеется, вовсе не значит, что стихотворение «Два голоса» перечеркнуло, отменило раннее («Счастлив, кто посетил сей мир…»); в конце концов можно бы утверждать, что есть два Тютчева. (Второй начался в стихах 1840 года. «Итак, опять увиделся я с вами…», где поэт не столько отверг Овстуг, сколько простился с «великим праздником молодости чудной…».) И оба Тютчева по-своему прекрасны. Первый из них — поэт цветущей молодости, которая чувствует себя призванной на пир богов и верит в свое бессмертье. В ранней тютчевской поэзии в самом деле почти отсутствует тема смерти; есть лишь мотив растворения в бессмертном мире природы, слияния с «беспредельным», смешения с «миром дремлющим».
Но в глазах зрелости — той подлинной, высочайшей человеческой зрелости, которая предстает в поздней поэзии Тютчева, — эта молодая вера показалась бы своего рода похмельем в чужом пиру. В стихотворении «Два голоса», если вдуматься, утверждено несравненно более высокое самосознание. Ведь в строках «Счастлив, кто посетил сей мир…» человек — только «допущенный» на повет богов, которые милостиво позволяют ему пить из их чаши. Между тем в стихотворении «Два голоса» человек по-своему равен олимпийцам; более того, они, счастливцы, блаженствующие в своем бессмертии, глядят «завистливым оком» на борьбу смертных, но непреклонных сердец.
Жених, самозабвенно венчающийся с целым миром, и муж (оба «голоса» начинают именно словом «мужайтесь…»), с ясным и полным сознанием «конца» ведущий свой жестокий бой, — таковы два лика, предстающих перед нами в ранней и поздней поэзии Тютчева. Поэзия праздника и поэзия человеческого подвига…
Но вернемся к стихотворению «Русской женщине», где тема человека сливается с темой родины. Оно находится в ряду характернейших поздних стихотворений: «Итак, опять увиделся я с вами…», «Тихой ночью, поздним летом…», «Слезы людские…», «Кончен пир, умолкли хоры…», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Пошли, Господь, свою отраду…», «Не рассуждай, не хлопочи!..» и т.п. — вплоть до созданного в 1855 году, накануне падения Севастополя, несравненного по своему духовно-историческому значению: «Эти бедные селенья…» — стихотворения, которым равно восторгались столь разные люди, как Достоевский и Чернышевский.
Все названные стихотворения так или иначе проникнуты стремлением понять,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной…
Это относится ко всему на родине — начиная с ландшафта, с пейзажа. Правда, еще будут отдельные наплывы ушедшего, казалось бы, в прошлое восприятия. В 1859 году по дороге из южной Европы в Россию поэт создаст диптих «На возвратном пути», где противопоставит «чудный вид и чудный край» Швейцарии «безлюдному краю» (опять это определение!) родины, где уже не верится,
Что есть края, где радушные горы
В лазурные глядятся озера.
Но еще через несколько лет Тютчев напишет дочери Дарье, находившейся тогда в Швейцарии: «Я обращался к воспоминаниям и силой воображения старался, насколько это возможно, разделить твои восторги от окружающих тебя несравненных красот природы… Все это великолепие… кажется мне слишком ярким, слишком кричащим, и пейзажи, которые были у меня перед глазами, пусть скромные и непритязательные, были мне более по душе».
К этому времени Тютчев уже создал многие свои проникновенные русские «пейзажи»: «Тихой ночью, поздним летом…», «Обвеян вещею дремотой…», «Первый лист», «Не остывшая от зною…», «Как весел грохот летних бурь…», «Чародейкою зимою…», «Лето 1854», «Есть в осени первоначальной…», «Смотри, как роща зеленеет…», «Осенней позднею порою…», «Декабрьское утро», — «пейзажи», которые и невозможно было бы создать без пережитого поэтом духовного переворота.
То, о чем столь определенно сказано в письме к дочери, созрело в творческом сознании поэта много раньше. Еще 25 февраля 1853 года он писал о родных — орловско-брянских — местах, что «прекрасное… интимная поэзия природы… не выступает явно… в наших краях, с их грустной и неяркой красотой».
Но дело отнюдь не только в «пейзаже». Для Тютчева все подлинное бытие России вообще совершалось как бы на глубине, недоступной поверхностному взгляду. Истинный смысл этого бытия и его высшие ценности не могли — уже хотя бы из-за своего беспредельного духовного размаха — обрести предметное, очевидное для всех воплощение.
Вскоре после своего окончательного приезда в Россию, 1 октября 1844 года, Тютчев говорил Вяземскому, что «по возвращении его из-за границы более всего поражают его: отсутствие России в России». Это на первый взгляд странное утверждение глубоко содержательно. «За границей, — сказал тогда Тютчев, — всякий серьезный спор, политические дебаты и вопросы о будущем неминуемо приводят к вопросу о России. О ней говорят беспрестанно, се видят всюду. Приехав в Россию, вы ее больше не видите. Она совершенно исчезает из кругозора» (вскоре поэт скажет в стихах — и будет не раз повторять — о «крае безлюдном»).
Мысль эта уже не покинет Тютчева. 5 декабря 1870 года он напишет: «Пора бы наконец понять, что в России всерьез можно принимать только самое Россию», — то есть целостную суть ее бытия, а не какие-либо внешние проявления этого бытия.
Тютчев не был одинок в этом видении родины. Другой величайший художник того же поколения, Гоголь, писал в 1841 году в Италии: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросано и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными, высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы… Открыто — пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто но обольстит и пс очарует взора».
И сразу же после этих слов (явно перекликающихся с тютчевским «эти бедные селенья, эта скудная природа») Гоголь говорит, в сущности, о том же, о чем сказано тютчевским «сквозит и тайно светит»:
«Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе?.. Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце?.. Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца?.. У! какая сверкающая, чудная, незнакомая1 земле даль! Русь!..»
В тютчевских стихах, как мы видели, не раз возникают своего рода ключевые слова — «незрима» и «край безлюдный». Они, конечно, имеют в виду сопоставление с Западом, смысл бытия которого всецело воплощен предметно — в разнообразных вещах и явлениях, ярких, эффектных событиях и, разумеется, в самих людях, вернее, в многолюдий, притом опять-таки ярком и четко оформленном.
В тютчевских стихотворениях, созданных в Германии, при всей их лирической углубленности, которая как бы не оставляет места для предметных образов, так или иначе запечатлено это праздничное «многолюдье»:
Еще шумел веселый день,
Толпами улица блистала…
В толпе людей, в нескромном шуме дня…
Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей мотет…
А в уже упомянутом двучастном стихотворении «На возвратном пути» поэт говорит о «родном ландшафте»:
Месяц встал — и из тумана
Осветил безлюдный край…
.....
Все голо так — и пусто-необъятно
.....
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья…
Русское бытие представало как не обладающее красочной пластичностью, не имеющее законченных, чеканных форм. Оно представало скорее как стихия, некое излучение, свечение, нежели как предметная реальность, «вещество». И эту стихию надо было словно схватывать на лету.
Имеет смысл отметить здесь, что тютчевское поэтическое освоение России во многом противоречило художественной программе славянофильства. Все русское искусство слова не удовлетворяло славянофилов 1840— 1850-х годов, поскольку они не находили в нем ясных, предметных, пластических образов национального бытия в его положительной, в пределе — прекрасной, идеальной — сущности. С этой точки зрения славянофилы, между прочим, не раз указывали на искусство стран Запада, которое создало богатейшую галерею таких предметных, образов. Русское же искусство, утверждали славянофилы, в силу своей печальной оторванности (начавшейся в эпоху Петра) от народно-национальных начал, пока, так сказать, не научилось воплощать самобытное содержание русской жизни. И тютчевский образ России долго представлялся славянофилам слишком расплывчатым и малосущественным. Между тем для постижения глубочайшего смысла русского бытия необходимо было не четкое предметное воплощение, но своего рода прозрение.
В высшей степени характерно, что многие стихотворения Тютчева о России созданы в дороге (или, как он сам нередко помечал в автографах — «дорогой») — то есть не на основе долгого и последовательного вчувствования и размышления, но в результате мгновенного, даже как бы неожиданного откровения.
Так, по дороге из Москвы в Овстуг 13 августа 1855 года было написано великое стихотворение «Эти бедные селенья…». Через два года (22 августа 1857) «в коляске на третий день нашего путешествия» из Овстуга в Москву — по записи дочери поэта Марии — он создал «Есть в осени первоначальной…».
Вообще с полной достоверностью известно, что более двух десятков значительнейших поздних тютчевских стихотворений создано в дороге, и есть все основания полагать, что на самом деле их было гораздо больше (об обстоятельствах создания подавляющей части стихотворений поэта мы ничего не знаем).
Уже говорилось, что творчество было для Тютчева не столько самовыражением, сколько актом его бытия, своего рода преодолением, разрешением той или иной жизненной ситуации. Творчество как особое самостоятельное дело, которым занимаются, специально выбрав время, в рабочем кабинете, вовсе не характерно для поэта. И тот факт, что многие стихи написаны в дороге, — лишнее свидетельство в пользу такого представления.
Творчество предстает в этом случае не как осуществление заранее намеченного замысла, но как прямое продолжение жизни в поэтическом слове. И такие стихи, не переставая быть созданиями искусства, в то же время являют собой, в сущности, вполне реальные события жизни поэта (а не позднейшие воспроизведения этих событий).
Нельзя не заметить, что поэтическое открытие России, воплощенное в тютчевских стихотворениях самого конца 40—50-х годов, явно связано с его частыми в то время поездками в Овстуг. Он хоть ненадолго приезжал в Овстуг в 1849, 1852, 1853, 1855 и 1857 годах. И чуть ли не каждая поездка порождала стихотворения о родине.
В высшей степени примечательно, что новый расцвет тютчевского творчества начался именно тогда, когда в русской литературе в целом начиналась новая — после пушкинской — поэтическая эпоха. Уже шла речь о том, что к середине 1830-х годов поэзия всецело отошла на второй план литературы, уступив свое место прозе и публицистике; это ясно выразилось даже и в деятельности самого Пушкина в последние годы его жизни.
И вот в январском номере «Современника» за 1850 год Некрасов в полном смысле слова воскрешает Тютчева, не без недоумения отметив, что в 30-е годы «ни один журнал не обратил на него ни малейшего внимания».
Статья Некрасова, по сути дела, провозгласила начало новой поэтической эпохи, или, вернее, предчувствие этого начала. Между тем Некрасов, без сомнения, не имел никакого представления о том, что как раз в предыдущем, 1849 году Тютчев после десятилетнего перерыва переживает новый творческий расцвет. Перед нами лишнее доказательство того, что развитие поэзии (в данном случае русской поэзии), казалось бы, не подчиняющееся каким-либо законам, на самом деле обладает единой внутренней устремленностью, в силу которой Тютчев, ничего не зная о замысле некрасовской статьи, как бы подтверждал ее своей творческой деятельностью.
Но еще более замечательным был тот факт, что Некрасов словно угадывал и новую направленность тютчевского творчества. В его статье, пожалуй, наиболее высоко оценено созданное в 1830 году в России стихотворение Тютчева «Осенний вечер» («Есть в светлости осенних вечеров…»), которое было разобрано выше, — стихотворение, явно предвосхищавшее позднее творчество поэта:
…Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.
Столь же выразительна и другая черта некрасовской статьи. В ней были оценены как «сравнительно слабейшие» такие наиболее «космические» по своему духу стихи молодого Тютчева, как «Сон на море» и «День и ночь». Приведя в своей статье 24 стихотворения из 39, в свое время опубликованных в «Современнике», Некрасов не перепечатал ни названные, ни стихотворение «Цицерон» (с его «Счастлив, кто посетил сей мир…»).
Некрасов словно бы знал, что в течение нескольких месяцев, предшествовавших появлению его статьи, Тютчев создал совсем иные стихи — «Тихой ночью, поздним летом…», «Слезы людские, о слезы людские…», «Русской женщине», а в последующие месяцы напишет «Пошли, Господь, свою отраду…», «Обвеян вещею дремотой…», «Два голоса» и т.п.
Обратившись к поэзии Тютчева, Некрасов проявил, таким образом, удивительную чуткость, ибо вскоре стали публиковаться новые тютчевские стихи, оказавшие прямое и глубокое воздействие на творчество самого Некрасова (не будем забывать, что в 1850 году он, как поэт, еще находился в процессе становления, и первая некрасовская книга, не считая сожженного им в 1840 году юношеского сборника «Мечты и звуки», вышла лишь в 1856 году). Громадное вдохновляющее значение имели для Некрасова и тютчевские стихи, так или иначе связанные с темой России, и его интимная лирика.
Подчас Некрасов совершенно явно развивает тютчевские мотивы, как, скажем, в этом своем знаменитом стихотворении 1857 года:
В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России, —
Там вековая тишина…
Некрасовская статья решительно изменила отношение к тютчевской поэзии, между прочим, и в среде славянофилов. В течение 1850–1852 годов было опубликовано около 30 стихотворений поэта (большинство — в журнале «Москвитянин»); вспомним, что в 1842–1849 годах не появилось ни одного стихотворения Тютчева.
Литератор Николай Сушков, муж сестры Тютчева Дарьи, решил, как бы исполняя пожелание, высказанное в некрасовской статье, издать книгу поэта. Но он не смог довести дело до конца; нужна была, очевидно, более действенная и серьезная воля. Книгу издал сам Некрасов, хотя ее подготовку к печати осуществил главным образом его тогдашний ближайший друг Иван Тургенев, который явился своего рода посредником между Некрасовым и Тютчевым.
Тютчев к тому времени уже хорошо знал и высоко ценил творчество Тургенева. Еще в ноябре 1849 года он участвовал в литературном вечере у Владимира Одоевского, вечере, на котором сам Щепкин превосходно прочитал тургеневскую драму «Нахлебник» (автор в то время жил за границей). Тютчев увидел в драме «захватывающую и подлинно трагическую правду». В 1852 году вышли в свет «Записки охотника», которые поэт-воспринял с еще большим восхищением. После этого знакомство Тютчева с Тургеневым, состоявшееся, по-видимому, в 1850 или 1851 году, перешло в тесные дружеские отношения.
Поэзию же Некрасова Тютчев, естественно, узнал позже. Нам неизвестно, знакомился ли он с первой его книгой 1856 года, но следующее, более полное издание стихотворений и поэм Некрасова, вышедшее в конце 1861 года, Тютчев, надо думать, оценил по заслугам. Его дочь Мария записала в своем дневнике 14 марта 1862 года: «Папа читал мне вслух стихи Некрасова».
Между тем в начале 50-х годов Тютчев наверняка воспринимал Некрасова только как издателя журнала «Современник», выразившего преклонение перед стихами никому не ведомого «Ф. Т-ва». Весь душевный строй Тютчева — особенно в поздние его годы — препятствовал тому, чтобы вступить в какие-либо прямые отношения с Некрасовым. Афанасий Фет свидетельствовал, что Тютчев «тщательно избегал не только разговоров, но даже намеков на его стихотворную деятельность». Между тем общение с Некрасовым, «воскресившим» тютчевскую поэзию, неизбежно означало бы именно такой разговор. Не надо забывать, что некрасовская статья была вообще первой статьей о поэзии Тютчева и сразу же ставила ее в один ряд с пушкинской.
К счастью, нашелся удачный посредник — Тургенев, с которым Тютчев, несомненно, гораздо больше говорил о «Записках охотника», чем о своих собственных стихотворениях. И, как вспоминал Фет, «Тургеневу стоило большого труда выпросить у Тютчева тетрадку его стихотворений для «Современника»…», то есть для издателя этого журнала — Некрасова. Тургенев сам признавался, что он «заставил» Тютчева согласиться на это издание его стихотворений.
Книга поэта вышла бы, по всей вероятности, намного раньше, если бы Тургенев за «крамольный» некролог о Гоголе не был сослан в мае 1852 года в свое имение Спасское-Лутовиново. Он вернулся в Петербург лишь 9 декабря следующего года, сразу же тесно сблизился с Тютчевым и начал свои уговоры.
И в февральском номере «Современника» за 1854 год Некрасов со сдержанной гордостью писал в помещенном на отдельном листе журнала объявлении: «Несколько лет тому назад редакция «Современника» имела случай заметить, что автор стихотворений, которые помещал Пушкин в своем «Современнике»… принадлежит несомненно к замечательнейшим русским поэтам, и изъявляла сожаление, что произведения его не собраны и не изданы в одной книге… Теперь нам приятно уведомить читателей, что автор (Федор Иванович Тютчев) предоставил нам право напечатать все его стихотворения, как прежде напечатанные, так и новые, что мы и исполним в следующей книжке «Современника». Мы поместим их в начале III книжки «Современника» с отдельной нумерацией, заглавным листом и оглавлением, чтобы желающие могли переплести стихотворения Ф. Тютчева в отдельную книгу…»
Мартовский номер «Современника» открывался «сборником» из 92 тютчевских стихотворений, который многие подписчики в самом деле переплели как книгу. В апрельском номере журнала появились еще 19 стихотворений поэта. А еще через два месяца, убедившись в серьезном успехе тютчевской поэзии, Некрасов издал уже «настоящую» книгу — «Стихотворения Ф. Тютчева. Санктпетербург. 1854».
Таким образом, Некрасов осуществил то дело, которое начал, но не смог завершить Пушкин семнадцать с лишним лет назад (большую роль в подготовке издания сыграл и Тургенев, но главная, исходная заслуга принадлежит, конечно, Некрасову).
Общий тираж журнала «Современник» достигал тогда около четырех тысяч экземпляров (подписчиков было три тысячи); не менее трех тысяч составлял, по-видимому, и тираж книги «Стихотворения Ф. Тютчева». Для тех времен это был по-своему «массовый» тираж. Следует учитывать, что тогдашние семьи были гораздо больше нынешних (в среднем десять человек), и семитысячный тираж попадал, таким образом, в руки 70 тысяч читателей.
Журнал, естественно, разошелся сразу; книга была целиком распродана к 1860 году. 5 марта Эрнестина Федоровна писала дочери поэта Дарье: «Я сейчас послала за экземпляром маленького сборника стихов папы — это последний, еще имеющийся в продаже».
А через два года Чернышевский в записке своему двоюродному брату А.Н. Пыпину из Петропавловской крепости, перечисляя книги, которые ему хотелось бы иметь при себе, уже напишет: «Тютчев (если можно достать)…»
В книге — вернее, в вышедших одна за другой двух книгах — Тютчева были достаточно полно представлены а его стихи конца 20—30-х годов (их было более 60), и новые, созданные в 1849–1853 годах произведения (около 50). И книга эта не только сделала наконец тютчевскую поэзию реальным, осязаемым явлением литературы, но и сыграла громадную, не могущую быть переоцененной роль в дальнейшем развитии русской литературы в целом.
Речь идет не о внешнем, очевидном успехе книги; он был не так уж громок и длителен. Правда, книга (считая и ее журнальный вариант) вызвала около 20 печатных откликов, среди которых, кстати, были и отрицательные, что, впрочем, как бы необходимо для успеха, всегда подразумевающего полемический накал. Книга постоянно возникала в разговорах и письмах многих современников, следивших за литературой. На некоторое время Тютчев стал в прямом смысле слова «знаменитостью». Писемский, живший тогда в глухой провинции, в Чухломском уезде Костромской губернии, писал, что критика «кричит в пользу» Тютчева, — такое создавалось в тот момент впечатление. Через много лет Лев Толстой, вспоминая о том, как поэт навестил его в конце 1855 — начале 1856 года, отметил: «Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне».
Здесь точно сказано — «тогда знаменитый», ибо Тютчев был в центре внимания всего лишь несколько лет, до начала 60-х годов; потом его, как свидетельствовал тот же Толстой, «вся интеллигенция наша забыла или старается забыть: он, видите, устарел…»
Но если иметь в виду не внешнее шумное признание, не «популярность», тютчевекая поэзия вовсе не была забыта. И об этом ясно говорит уже хотя бы отношение к ней самого Толстого, который на протяжении всей своей жизни в различных выражениях повторял мысль о том, что «без Тютчева нельзя жить».
Глубокое — подчас почти не заметное на поверхности — воздействие тютчевской поэзии было исключительно мощным и многосторонним.
Прежде всего книга Тютчева, вышедшая в 1854 году, в полном смысле слова открыла новую поэтическую эпоху. Здесь, в жизнеописании поэта, невозможно подробно рассматривать сложные историко-литературные проблемы, связанные с этой эпохой2. Наметим лишь основные моменты.
Во-первых, книга Тютчева оказала вдохновляющее воздействие на творчество целой группы поэтов старшего поколения, которых уместно назвать «тютчевской плеядой». Речь идет как о поэтах, вышедших из круга любомудров, — Хомякове и Шевыреве, так и о Федоре Глинке, Вяземском, Бенедиктове и др. Их книги — в большинстве случаев первые книги, хотя они начали свой путь давно, — вышли вслед за тютчевской, во второй половине 50-х — начале 60-х годов и вместе с ней как бы представили своеобразную и очень ценную область в мире русской поэзии.
С другой стороны, книга Тютчева сыграла первостепенную роль в окончательном становлении поэтов младшего поколения, вступивших в литературу в столь неблагоприятные для поэзии 40-е годы, — и Некрасова, и Фета, Полонского, Алексея Толстого, Майкова и др.
Но главное даже не в этом. Воздействие тютчевской поэзии имело плодотворнейшее значение для развития русской литературы в целом и прежде всего — центрального ее жанра, достигшего высшего, всемирно значимого расцвета в конце 1850-х — начале 1880-х годов, — романа.
После явления «Евгения Онегина», «Героя нашего времени» и «Мертвых душ» надолго, почти на два десятилетия, развитие романа, по сути дела, прекратилось. В деятельности так называемой натуральной школы (40-е годы) и писателей 50-х годов господствующей формой были различные жанры очеркового — в том числе и «документального» — характера; слово «очерк» вообще ключевое для литературы данного периода. Искусство слова в то время шло как бы исключительно вширь, стремясь всесторонне освоить социальную жизнь страны, проникнуть во все ее сферы и слои. И это было совершенно необходимо для дальнейшего развития отечественной культуры.
Центральными произведениями русской литературы в то время, когда вышла книга Тютчева, были произведения именно очеркового типа — «Записки охотника» Тургенева, кавказские и севастопольские «рассказы» (вернее, очерки) Толстого и его же хроника «Детство», «Отрочество» и «Юность», «Очерки из крестьянского быта» Писемского, «Губернские очерки» Щедрина, «Семейная хроника» Сергея Аксакова, «Очерки народного быта» Николая Успенского и т. п. Это были, конечно, замечательные книги, но все же в литературе недоставало творений, основу которых составил бы целостный и монументальный поэтический образ мира, — как это было в «Евгении Онегине» или «Мертвых душах».
Такие творения начинают создавать с конца 50-х, а особенно в 60—70-е годы Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Лесков и др. И нет сомнения, что неоценимую роль в рождении их подлинно поэтического эпоса сыграла по» зи» 50-х годов, прежде всего творчество Тютчева, а также испытавшее его глубокое воздействие творчество Некрасова, Фета, Полонского. Если высказаться наиболее кратко и просто, величайшая эпоха русского и одновременно мирового романа как бы слила воедино открытия «очерковой» литературы 40—50-х годов и высокий творческий пафос новой поэтической эпохи, вдохновленной книгой Тютчева.
Толстой и Достоевский не раз говорили о том громадном значении, которое имела для них поэзия Тютчева и его младших сподвижников. Можно с полным основанием утверждать, что никого из своих литературных современников Толстой и Достоевский не ценили столь высоко, как Тютчева, отдавая также должное Некрасову, Фету, Полонскому.
Словом, появление книги Тютчева было поистине великим событием в отечественной литературе. Толстой вспоминал о своей — прошедшей под знаком острого, отчасти даже нарочитого скептицизма — молодости: «Когда-то Тургенев, Некрасов и К? едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато, когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта». Позднее Толстой скажет даже, что «Тютчев, как лирик, несравненно глубже Пушкина».
Между прочим, Достоевский, находившийся во время появления тютчевской книги в ссылке в Семипалатинске, встретил ее поначалу с еще большим сопротивлением, чем Толстой (которого «едва могли уговорить»). Книга дошла до него с запозданием, и 18 января 1856 года он написал Майкову: «Скажу вам по секрету, по большому секрету: Тютчев очень замечателен; но… и т.д.… Впрочем, многие из его стихов превосходны». По-видимому, Достоевскому издали, как и Писемскому в Чухломе, казалось, что о Тютчеве слишком «кричат», и это, в частности, рождало сопротивление. Но впоследствии Достоевский увидит в Тютчеве «первого поэта-философа, которому равного не было, кроме Пушкина».
Сложными, глубинными путями книга Тютчева, как и наиболее значительные его стихотворения, появившиеся в последующие годы, вошла в плоть и кровь русской литературы, устремляя ее ввысь, побуждая ее к проникновенному и целостному видению и воплощению человека и природы, России и мира.
Среди всех, кто был так или иначе причастен к тютчевской книге, едва ли не спокойнее и даже равнодушнее всех отнесся к ее выходу в свет… сам Тютчев. Нам неизвестно ни единого слова, сказанного им о своей книге…
Впрочем, 24 октября 1854 года, как раз в тот момент, когда в Крыму шел тяжелейший бой под Инкерманом, Тютчев написал строки, в которых, наверно, имел в виду и свою вышедшую за несколько месяцев до того книгу:
Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!..
Да, не будем забывать, что утверждение Тютчева в литературе совершалось накануне и во время Крымской войны, которой он, как мы видели, был весь поглощен. Нет сомнения, что в свете надвигающейся катастрофы интерес к своей книге представлялся Тютчеву чем-то «ребяческим»…
В 1847 году, в возрасте сорока четырех лет, поэт так выразил свое глубокое убеждение: «Я отжил свой век и… у меня ничего нет в настоящем». Но затем совершилось подлинное возрождение — жизнь словно начиналась заново: в 1849 году, после почти полного десятилетнего молчания, поэт вступает в новую и, пожалуй, наивысшую свою творческую пору; в 1850-м его захватывает едва ли не самая властная и глубокая в его жизни любовь.
И нет сомнения, что между тем и другим была органическая внутренняя связь, или, вернее, то и другое было выражением единого обновления души. Нельзя не заметить, что сами многочисленные стихи о последней любви всецело принадлежат (об этом уже шла речь) к новому периоду тютчевского творчества: они и не могли бы родиться без того духовного переворота, который со всей очевидностью выразился еще в стихах 1849 года.
По-видимому, далеко не случайно любовь поэта к Елене Денисьевой началась лишь на пятый год их знакомства, между тем как предшествующие его избранницы покоряли Тютчева чуть ли не при первой встрече. Он должен был увидеть, открыть в этой девушке нечто недоступное его взгляду ранее, должен был почувствовать то упоение «одной улыбки умиленья», которое оказывается «сильней», чем весь упоенный «избытком жизни» «цветущий мир природы».
Если высказаться несколько прямолинейно, любовь к Елене Денисьевой была неразрывно связана с тем подлинным открытием родины, которое совершилось накануне начала этой любви в душе и поэзии Тютчева. «Великий праздник молодости» поэта расцвел в Германии, в центре Европы, и здесь он встретил Амалию Лерхенфельд, Элеонору Ботмер и Эрнестину Пфеффель, оставивших неизгладимый след в его душе и самой его судьбе. Третья любовь была полной и проникновенной. И Тютчев в ней — если не бояться торжественных выражений — как бы всецело обручился с Европой. Но не менее существенно другое. Эрнестина Пфеффель, став Эрнестиной Федоровной Тютчевой и поселившись в России, не сделалась русской, даже не переменила своего — католического — вероисповедания, но она всей душой, всей существом поняла и приняла Россию, притом в известной мере еще и до своего приезда на родину мужа. Сумев оценить самобытность его гения, Эрнестина Федоровна смогла воспринять духовные ценности породившей Тютчева страны. Это может показаться странным, но именно Эрнестина Федоровна горячо настаивала на отъезде в Россию в 1844 году. Тютчев даже напоминал ей через десять лет: «Ты привела меня в эту страну» (то есть в Россию).
Строго говоря, это было преувеличением. Ведь еще за пять лет до возвращения на родину поэт сообщил отцу и матери, что «твердо решился… окончательно обосноваться в России. Нести3 желает этого не меньше, чем я. Мне надоело существование человека без родины». Ясно, что речь идет об обоюдном решении. Однако в тот момент, когда уже нужно было собираться в дорогу, Тютчев проявил нерешительность. Это вообще неотъемлемая черта его характера. Только едва ли верно истолковывать эту черту однозначно — как слабость духа. Да, Тютчеву всегда нелегко было сделать выбор, но, по всей вероятности, потому, что он с предельной остротой и полнотой понимал и чувствовал его ответственность. Ведь заведомо «нерешителен» и шекспировский Гамлет, но едва ли уместно говорить о слабости его духа…
Так или иначе Эрнестина Федоровна сообщала брату 21 мая 1844 года, за три с половиной месяца до отъезда из Германии: «Путешествие в Россию продолжает оставаться темой наших интимных обсуждений и даже супружеских ссор. Тютчеву этого совсем не хочется, я же чувствую настоятельную необходимость этого и намерена путешествие это осуществить».
Правда, Эрнестина Федоровна не ведала еще, что переселяется в Россию навсегда. Через шесть лет она напишет брату: «Один Бог знает, решилась ли бы я предпринять это путешествие в Россию… если бы мне было дано предчувствовать, что оно приведет нас к месту окончательного нашего пребывания». Но теперь уже все для нее было давно решено, и она делает только одну оговорку: «Я собираюсь завоевать себе достаточную свободу, чтобы уезжать на несколько месяцев за границу… втроем: маленькая Мария, мой муж и я…»
Эрнестина Федоровна уезжала за границу, то есть на свою родину, не столь уж часто и, за редкими исключениями, ненадолго. Очень значительную часть своей жизни она провела в Овстуге, который глубоко полюбила.
К сожалению, ее многочисленные письма к Тютчеву были сожжены ею самой после его смерти. Но и из почти 500 сохранившихся тютчевских писем к ней (она сожгла около 200, написанных до их свадьбы) ясно, что Эрнестина Федоровна в полной мере разделяла представления поэта о России и Западе. Это вовсе не означало, кстати сказать, что она хоть в какой-либо мере «отреклась» от Европы, ибо отнюдь не отрекался от всех подлинных европейских ценностей и сам Тютчев.
В биографии поэта, написанной славянофилом Иваном Аксаковым, есть немало суждений, которые внушают мысль о том, что в поздние свои годы Тютчев так или иначе «отвернулся» от Европы ради России. Своеобразным доказательством обратного — пусть и не очень «научным», но достаточно весомым, — является тот факт, что поэт до самого своего конца всеми силами души любил и беспредельно ценил ту, которая, конечно, никогда не переставала быть — при всем своем приятии России — истинно европейской женщиной.
Через год с лишним после того, как началась его любовь к Елене Денисьевой, 21 августа 1851 года Тютчев писал Эрнестине Федоровне — и писал, как подтверждают все обстоятельства, с полнейшей искренностью: «Ах, насколько ты лучше меня, насколько выше! Сколько выдержанности, сколько серьезности в твоей любви — и каким мелким, каким жалким я чувствую себя сравнительно с тобою…»
…Но пора уже обратиться к этой труднейшей, даже мучительной для всякого, кто думает о ней на достойном ее уровне, теме — теме двойной любви Тютчева. Все обстояло именно так: поэт в самом деле в продолжение долгих лет испытывал подлинную любовь Одновременно к двум женщинам.
При этом он постоянно страдал от острого чувства вины перед обеими, и не столько даже из-за своей «измены» и той, и друг ой, сколько от сознания, что — в отличие от них обеих — не отдает себя каждой из них всецело, до конца. Это сознание запечатлено со всей силой и в целом ряде стихотворений, и в письмах поэта.
Но, пожалуй, самообвинение было не вполне справедливо. Многое говорит о том, что Тютчев любил обеих женщин поистине на пределе души. Возможность такой — конечно, очень редко встречающейся — ситуации объясняется отчасти тем, что Эрнестина Пфеффель и Елена Денисьева отличались друг от друга не меньше, чем Европа и Россия… И самое чувство любви поэта к каждой из них было глубоко различным.
В Эрнестине Федоровне поэта восхищала «выдержанность» и «серьезность»; между тем, говоря об Елене Денисьевой, — как вспоминал муж ее сестры Георгиевский, — Тютчев «рассказывал об ее страстном и увлекающемся характере и нередко ужасных его проявлениях, которые, однако же, не приводили его в ужас, а, напротив, ему очень нравились как доказательство ее безграничной, хотя и безумной, к нему любви»…
Это заключение, по всей вероятности, справедливо. В минуту полной откровенности Тютчев говорил, что он несет в себе, как бы в самой крови, «это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви…». Поэту ни в коей мере не были присущи жажда славы, почестей, власти, тем более богатства и т.п. Но то, что он назвал «жаждой любви», переполняло его душу, пронизывая ее и восторгом и ужасом.
Через два года после женитьбы на Эрнестине Федоровне он должен был на несколько недель с ней расстаться; вскоре он написал ей (1 сентября 1841 г.): «Мне решительно необходимо твое присутствие для того, чтобы я мог переносить самого себя. Когда я перестаю быть существом столь любимым, я превращаюсь в существо весьма жалкое».
А гораздо позднее, в сентябре 1873 года, Иван Аксаков рассказал в письме к дочери поэта Екатерине, что ее отец не раз покаянно говорил о присущем ему «злоупотреблении человеческими привязанностями…».
Вся жизнь поэта ясно свидетельствует, что слово «злоупотребление» — это безжалостное самоосуждение. Можно сказать, что он испытывал беспредельное упоение той любовью, которую он вызывал, что он утопал в этой любви, словно теряя в ней самого себя и свою любовь. Ему казалось, что вызванная им любовь — ничем не заслуженный, поистине чудесный дар. Вот убеждение, которое Тютчев не раз высказывал в различной форме: «Я не знаю никого, кто был бы менее, чем я, достоин любви. Поэтому, когда я становился объектом чьей-нибудь любви, это всегда меня изумляло…»
Именно таково, очевидно, было и начало его отношений с Еленой Денисьевой. Как свидетельствовал Георгиевский, поэт вызвал в ней «такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную любовь, что она ухватила и все его существо, и он остался навсегда ее пленником».
Любовь Елены Деньсьевой в самом деле являла собой нечто исключительное; Георгиевский буквально не мог подобрать слов для определения ее силы и глубины. Он писал, что Елена Александровна смогла «приковать к себе» поэта «своею вполне самоотверженною, бескорыстною, безграничною, бесконечною, безраздельною, и готовою на все любовью… — такою любовью, которая готова была и на всякого рода порывы и безумные крайности с совершенным попранием всякого рода светских приличий и общепринятых условий».
Стоит добавить, что и сам характер этой женщины был соединением «крайностей»; Георгиевский подчеркивает, в частности, что Елена Александровна, готовая на «попрание» всех «условий», в то же время была женщина «глубоко религиозная, вполне преданная и покорная дочь православной Церкви», — не забывая при этом отметить, что «глубокая религиозность Лели не оказала никакого влияния на Федора Ивановича».
О безмерной любви своей Лели поэт не раз говорил в стихах, сокрушаясь, что он, породивший такую любовь, не способен подняться до ее высоты и силы; вот его поразительные строки об этом:
Ты любишь искренно и пламенно, а я —
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.
И, жалкий чародей, перед волшебным миром,
Мной созданным самим, без веры я стою —
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.
Он вновь и вновь повторяет, что «не стоит» ее любви:
Пускай мое она созданье —
Но как я беден перед ней…
Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе…
Эти самообвинения справедливы в одном отношении: поэт не мог расстаться с Эрнестиной Федоровной и целиком отдать себя новой любви. Но едва ли можно усомниться в том, что он любил Елену Александровну по-своему так же безгранично, беспредельно, как и она его.
…Еще в первые годы своей любви поэт создал символический образ возлюбленной — образ «своенравной волны», которая полна «чудной жизни»:
Ты на солнце ли смеешься,
Отражая неба свод,
Иль мятешься ты и бьешься
В одичалой бездне вод, —
Сладок мне твой тихий шепот,
Полный ласки и любви;
Внятен мне и буйный ропот,
Стоны вещие твои.
Будь же ты в стихии бурной
То угрюма, то светла,
Но в ночи твоей лазурной
Сбереги, что ты взяла…
Сбереги, ибо
в минуту роковую.
Тайной прелестью влеком,
Душу, душу я живую
Схоронил на дне твоем.
Сколько бы ни обвинял себя поэт в недостаточной любви к Елене Александровне, он в самом деле отдал ей свою душу.
Но каким образом это утверждение согласить с тем, что Тютчев говорил — уже после начала своей последней любви — Эрнестине Федоровне: «Ты — самое лучшее из всего, что известно мне в мире»? Можно бы показать постоянство такого его отношения к ней — как к своего рода идеальному существу, в котором воплощено все «лучшее», «высшее» и т.п. Это выражается чуть ли не в каждом стихотворении, обращенном к Эриестине Федоровне:
…Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное провиденье!
Все, что сберечь мне удалось,
Надежды, веры и любви…
Совсем иной человеческий облик в стихотворениях, посвященных Елене Денисьевой, — хотя бы в только что цитированном — о своенравной волне. Здесь жизнь являет себя во всей своей противоречивой цельности, с ее светящими взлетами и темными глубинами. И сами взаимоотношения любящих не имеют в себе ничего идиллического.
Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
(но так гласит преданье, а реальность не сводится к этому)
И роковое их слиянье,
И… поединок роковой…
Конечно, все тяжкое, мучительное, роковое в последней любви поэта связано с той раздвоенностью, которую он не в силах был преодолеть. И все же нельзя свести к этому смысл, вложенный поэтом в слово «поединок». Речь идет о любви, захватившей души двух людей до самого дна и как бы размывшей все границы между ними; «роковое слиянье» с неизбежностью ведет к «роковому поединку».
В 1858 году исполнилось двадцать лет со дня смерти первой жены Тютчева Элеоноры, и он написал стихи (о них уже шла речь), посвященные ее памяти. Они кончались строками о том, как
…Мило-благодатна,
Воздушна и светла
Душе моей стократно
Любовь твоя была.
Это стихотворение — может быть, без всякого намерения со стороны поэта — содержало своего рода противопоставление последней любви, которая никак не умещалась в рамках благодатности, воздушности и света. Но тем непобедимее была для Тютчева эта любовь, которая, как сказал он сам, была «всею моею жизнью». При этом необходимо только помнить, что «жизнь» поэта ни в коей мере не представляла собою замкнутое в себе частное существование. Все, что мы знаем о нем, ясно свидетельствует: он жил как бы перед целым Миром во всей беспредельности его пространства и времени.
И жизнь и смерть Елены Денисьевой были для поэта — если не бояться высоких слов — явлением мирового порядка. Это явствует уже хотя бы из того, что едва ли не самое всеобщее по смыслу стихотворение позднего Тютчева — «Два голоса» — имеет отчетливый отзвук в одном из стихотворений памяти Елены Денисьевой, написанном в марте 1865 года, — стихотворении, молящем о том, чтобы не исчезла «мука всноминанья», живая мука.
По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе, —
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить…
Тот же вселенский размах в другом стихотворении:
Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому еще не удавалось!
Ритмико-интонационное напряжение этих строк столь мощно, что оно, по-видимому, непосредственно отозвалось через полвека в строках преклонявшегося перед Тютчевым Александра Блока, — строках, говорящих о русской стихии в целом (поэма «Скифы»):
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Именно такими масштабами уместно мерить ту Любовь, которой посвящены тютчевские стихи о Елене Денисьевой.
Слова «свой подвиг совершившей» прозвучат еще раз в стихах поэта, созданных уже в самом конце жизни, в августе 1871 года. Здесь сказано о том, что природа «своей всепоглощающей и миротворной бездной» приветствует
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный…
Смысл тут уже иной; и в стихотворении «Два голоса», и в стихах о последней любви нет и намека на «бесполезность» человеческого «подвига», Стихи Тютчева были звеньями его бытия, и вполне понятна, вполне естественна эта расслабленность, эта, если угодно, сдача, капитуляция в стихотворении, созданном всего за год с небольшим до начала предсмертной болезни, последнего упадка сил.
Сейчас важно обратить внимание на другое — на то, что «подвиг» на языке поэта всегда означал всечеловеческий подвиг перед лицом Космоса. И образ его возлюбленной потому, в частности, и принадлежит к величайшим образам мировой поэзии, что он предстает как явление целой Вселенной.
В ранних тютчевских стихах о любви это не выступает столь мощно и рельефно. Любовь там раскрывается, так сказать, на фоне мира; между тем в поздних стихах сама любовь являет собой мировое действо, вселенскую трагедию, нисколько не утрачивая в то же время неповторимые черты живой жизни.
…Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
В стихотворении 1838 года «Весна» поэт провозглашал как необходимость: «хотя на миг» быть причастным «жизни божеско-всемирной» — жизни, образы которой переполняли тогда его стихи. В позднем творчестве поэта почти нет образов открыто космического плана; но, если внимательно вглядеться в их смысл, станет ясно, что их героиня (а вместе с ней, конечно, и сам лирический герой) не «на миг», а на всю жизнь причастна всеобщему бытию мира.
Это глубокое преобразование в поэтическом содержании даже не так легко понять. В ранней поэзии Тютчева человек может предстать «как бог», «как небожитель», хотя бы и «на миг». В поздней же тютчевской поэзии люди, способные на истинный «подвиг», оказываются глубоко причастными всемирному бытию именно как люди, в своей собственной сущности.
И нет сомнения, что «подвиг» своей возлюбленной поэт пережил именно как мировое событие. Этому не помешали ни многообразная житейская проза, терзавшая его любовь, ни охлаждающая сила времени; через четырнадцать лет все было так же накалено, как в начале.
15 июля 1865 года Тютчев написал:
Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.
Этот «блаженно-роковой день» был жив всегда — все долгие годы, хотя целая цепь трудных и даже тягостных обстоятельств омрачала и коверкала жизнь и души любящих — особенно Елены Александровны.
Как уже говорилось, в 1850 году она жила у своей тетки Анны Дмитриевны — инспектрисы Смольного института благородных девиц, который тщательно оберегал свою репутацию. Тайные свидания Елены Денисьевой с поэтом обнаружились уже в марте 1851 года, и Анна Дмитриевна была тут же удалена из института. Отец Елены, служивший исправником в Пензенской губернии, как раз в марте приехал в Петербург, В гневе он отрекся от дочери и запретил родственникам встречать с нею.
Но тетка, воспитывавшая Елену ещё с детских лет, когда она осталась без матери, любила ее как собственную дочь (Елена до конца своих дней звала тетку мамой). Получив «отставку» в Смольном, Анна Дмитриевна поселилась с племянницей на частной квартире.
Нам известны адреса Денисьевых — например, дом на тихой Кирочной улице (ныне ул. Салтыкова-Щедрина, № 14), между Летним и Таврическим садами. Квартира располагалась, по-видимому, на втором этаже пристройки, находящейся во дворе. Прихожая разделяла ее на «половины» Елены Александровны и ее тетки. Перед смертью Елена Александровна с теткой жила в доме на углу Ивановской и Кабинетской улиц4.
Анна Дмитриевна Денисьева — женщина насквозь «светская» — с большим почтением относилась к Тютчеву, который все-таки был камергер, имевший определенный вес при дворе; позднее, когда поэт обрел дружбу с новым министром иностранных дел А.М. Горчаковым, Анна Дмитриевна питала к нему даже своего рода подобострастие. Поэтому, в частности, она ни чем не препятствовала любви своей племянницы.
Достаточно шумный скандал нанес Елене Денисьевой, — несмотря на всю ее безоглядность в любви — страшный удар. Очевидно, тогда же, в марте 1851 года, Тютчев написал:
Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище душа твоей,
И ты невольно устыдилась
И тайн и жертв, доступных ей…
С еще более острым драматизмом говорится об этом в стихотворении того же времени «О, как убийственно мы любим», где, в сущности, предстает образ убитой, погубленной любви:
И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!
Конечно, эта боль уже не могла исцелиться, но постепенно Елена Денисьева, с ее по-своему очень сильной натурой, сумела овладеть собою. В первом из цитированных только что стихотворений поэт взывал:
Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!
И в какой-то мере она поднялась над этой «пошлостью».
20 мая 1851 года Елена Александровна родила дочь, названную Еленой. Это окончательно соединило возлюбленных нерасторжимой связью. Тютчев писал, по-видимому, еще до крещения дочери (поэтому она названа безымянной, что на языке поэта имело особенный смысл):
Когда, порой, так умиленно,
С такою верой и мольбой
Невольно клонишь ты колено
Пред колыбелью дорогой,
Где спит она — твое рожденье —
Твой безымянный херувим, —
Пойми ж и ты мое смиренье
Пред сердцем любящим твоим.
Рождение ребенка вызвало новую коллизию: хотя Елена Александровна окрестила девочку как Тютчеву, это не имело ровно никакой законной силы. Дочь была обречена на печальную в те времена судьбу «незаконнорожденной». Но Елена Александровна, которая и себя называла Тютчевой, постоянно была обращена к истинному смыслу ее отношений с возлюбленным, видя в формальных преградах только роковое стечение обстоятельств.
По воспоминаниям А.И. Георгиевского, она даже и через много лет, в 1862 году, говорила: «Мне нечего скрываться и нет необходимости ни от кого прятаться: я более всего ему жена, чем бывшие его жены, и никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я его люблю и ценю, никогда никто его так не понимал, как я его понимаю, — всякий звук, всякую интонацию его голоса, всякую его мину и складку на его лице, всякий его взгляд и усмешку; я вся живу его жизнью, я вся его, а он мой: «и будут два в плоть едину», а я с ним и дух един… Ведь в этом и состоит брак, благословленный самим Богом, чтобы так любить друг друга, как я его люблю, и он меня, и быть одним существом… Разве не в этом полном единении между мужем и женою заключается вся сущность брака… и неужели Церковь могла бы отказать нашему браку в своем благословении? Прежний его брак уже расторгнут тем, что он вступил в новый брак со мной…»
Как свидетельствовал тот же Георгиевский, Елена Александровна была убеждена, что Тютчев не может вступить с ней в брак потому-де, что «он уже три раза женат, а четвертого брака Церковь почему-то не венчает, на основании какого-то канонического правила… Я обречена всю жизнь оставаться в этом жалком и фальшивом положении, от которого и самая смерть Эрнестины Федоровны не могла бы меня избавить, ибо четвертый брак Церковью не благословляется. Но так Богу угодно, и я смиряюсь перед Его святою волею, не без того, чтобы по временам горько оплакивать свою судьбу».
Трудно сказать, каким образом в сознании Елены Александровны сложилось это убеждение, не соответствовавшее действительности (включая и то, что Тютчев будто бы был женат не два, а три раза), но, по-видимому, оно хоть как-то примиряло ее с «жалким и фальшивым положением».
Насколько мы можем судить, Тютчев всегда стремился к тому, чтобы как можно больше времени не разлучаться с Еленой Александровной. Этому способствовало и то обстоятельство, что Эрнестина Федоровна с младшими детьми обычно большую часть года жила в Овстуге, куда Тютчев приезжал нередко, но ненадолго; зимние же месяцы жена иногда проводила за границей.
Известно даже, что Тютчев, когда он на более или менее длительный срок уезжал в Москву, брал с собой Елену Александровну. Наконец, уже в последние годы ее жизни они не раз вместе путешествовали по Европе; этими поездками она особенно дорожила, говоря, что во время них Тютчев был «в полном и нераздельном ее обладании». Возможно, именно этим объясняется, что поэт, явно не стремившийся за границу (после окончательного возвращения на родину в 1844 году он за первые полтора десятилетия собрался в Европу только два раза — в 1847 и 1853 годах, — и то на очень короткое время), в 1859–1862 годах трижды отправлялся на Запад, и сравнительно надолго. Словом, жизнь поэта в 1850–1864 годах (особенно в первую и последнюю трети этого времени) была отдана прежде всего Елене Александровне.
Взаимоотношения Тютчева с Эрнестиной Федоровной в течение долгих периодов, по сути дела, целиком сводились к переписке. Так было, например, с весны 1851-го до осени 1854 года. Первые два года жена с детьми почти безвыездно жила в Овстуге, а в июне 1853 года уехала в Германию (Тютчев сопровождал ее, но уже в августе отправился обратно в Петербург); после возвращения в Россию в мае 1854 года она пробыла в Петербурге только три недели и снова до поздней осени поселилась в Овстуге. Кстати сказать, вплоть до 1854 года у Тютчевых не было сколько-нибудь постоянного пристанища в Петербурге. Среди известных нам петербургских адресов семьи поэта в 40-х — начале 50-х годов — гостиница «Кулон» (ныне в сильно перестроенном виде — «Европейская», на углу площади Искусств), пансион на Английской набережной (ныне набережная Красного флота), дом дальнего родственника Тютчевых, полковника Сафонова, на Марсовом поле (дом № 3), ненадолго приютившая семью осенью 1850 года квартира на Невском проспекте у Аничкова моста и т.д.
Стоит привести характерные строки из писем поэта Эрнестине Федоровне. 22 марта 1853 года, накануне приезда семьи из Овстуга в Петербург, откуда вскоре жена на год уедет за границу, Тютчев пишет: «Ваша квартира готова. Она, к сожалению, не будет ни великолепна, ни элегантна, ни даже удобна. Это — квартира в нижнем этаже дома Сафонова, но она все-таки лучше той, которая находится в бельэтаже (как здесь говорят) в превращена в совершенную конюшню последними жильцами. Я сам, однако, поселюсь там, за положительной невозможностью найти угол внизу, с вами. Но, как бы то ни было, приезжайте». По-видимому, дело не только в недостатке подходящих квартир; поэт стремился тогда жить отдельно от семьи, хотя и рядом.
После возвращения из-за границы, куда Тютчев, получивший в то время служебную командировку (о которой мы уже говорили), проводил Эрнестину Федоровну, он пишет (14 октября): «Приехав сюда, я пытался временно найти пристанище в нашем весеннем помещении в доме Сафонова. Но было уже поздно. Оба этажа были уже заняты, и наша мебель куда-то сложена. Пришлось мне опять искать приюта в гостинице Клее, и я поселился снова в тех двух комнатах 4-го этажа, которые занимал раньше за 12 рублей в неделю» (за полгода до того, 18 февраля, Тютчев писал жене об этой гостинице: «Я сижу в комнате на 4-м этаже, перед широким и низким окном, выходящим во двор»).
Такое почти полное отсутствие налаженного быта продолжалось в течение первых десяти лет петербургской жизни поэта, что, конечно, многое говорит и о нем самом, и об атмосфере его тогдашнего существования. Не забудем, что в 1853 году Тютчеву исполнилось уже пятьдесят лет, и все же он живет в условиях этой — понятной и уместной разве лишь для поры юных скитаний — безбытности, неукорененности, даже бездомности.
Естественно предположить, что этот образ жизни был внутренне связан и с длившейся уже четвертый год любовью к Елене Денисьевой. Поэт как бы не стремился устраивать прочное семейное гнездо, которое противоречило бы этой любви. Правда, для Тютчева и вообще не характерна склонность к налаженному бытовому устройству. Но именно в те годы, о которых идет речь, его безбытность дошла до предела. В январе 1853 года, когда поэт на три недели приехал в Овстуг, Эрнестина Федоровна написала оттуда своей падчерице Анне: «Не забудь… отложить достаточно денег для того, чтобы бедный папа мог немного приодеться по возвращении, он ужасно оборвался».
Тютчев прямо-таки пренебрегал тогда элементарными требованиями «приличий». Через год, в апреле 1854 года, его дочь Дарья сообщала сестре, что отец не заботится ни о чем, «даже о своей шевелюре, которая своим обилием и беспорядком до такой степени шокировала великую княгиню, что она по этой причине воздержалась от приглашения его на свои праздничные приемы, о чем и объявила недавно на обеде, куда он был приглашен ею для того, чтобы она выразила ему свое восхищение его стихами». (Речь идет о супруге брата Николая I Михаила, Елене Павловне — высокообразованной и «либеральной» женщине, которая стремилась поддерживать отношения с крупнейшими деятелями культуры, начиная с Пушкина; стихи, которыми восхищается Елена Павловна, — это стихи, опубликованные в некрасовском «Современнике».)
…Но естественно встает вопрос о том, как воспринимала жена любовь мужа к другой. Существует мнение, что такого рода ситуации вообще не следует обсуждать публично — ив этом мнении, конечно, есть своя правда. Однако о последней любви поэта написано за последние шесть десятилетий очень много, и умолчание обо всем с ней связанном уже никак не спасает положения. Лучше уж объективно разобраться в ситуации, чем попросту не обращать внимания на произвольные домыслы5.
19 августа 1855 года старшая дочь поэта, которая тогда достаточно ясно представляла себе положение вещей, писала о своей мачехе: «Мама как раз та женщина, которая нужна папе, — любящая непоследовательно, слепо и долготерпеливо. Чтобы любить папу, зная его и понимая, нужно… быть святой, совершенно отрешенной от всего земного…»
Эрнестина Федоровна явила — в очень мучительных для нее жизненных условиях — редчайшее самообладание. Она, в частности, ни разу за все четырнадцать лет ничем не обнаружила, что знает о любви мужа к другой. Единственное, о чем она говорила в письмах к Тютчеву, — что он разлюбил ее, и давала понять, что поэтому им следует расстаться.
2 июля 1851 года он писал в ответ на письмо жены, отправленное из Овстуга: «Итак, любовь моя к тебе — лишь вопрос нервов, и ты говоришь мне этот вздор с выражением покорной убежденности…» Через четыре дня он продолжает: «Ты воображаешь, что привязанность моя к тебе не что иное, как недуг… что если бы я утратил тебя, то едва улеглось бы первое горе, как борозда, оставленная памятью о тебе, спокойно затянулась бы» (выделенные Тютчевым слова излагают суждения жены).
Выше говорилось, что в течение 1851–1854 годов отношения поэта с женой почти целиком сводились к переписке. Но это была поистине жизнь в письмах — жизнь, проникнутая высоким напряжением души, жизнь, полная мысли и чувства. За эти три с небольшим года поэт отправил жене более сотни писем, притом чаще всего пространных и насыщенных глубоким смыслом, хотя бы в их подтексте, в намеках и подразумеваниях. Эти письма — целая история жизненных отношений, то обостряющихся до крайности, то находящих пути к примирению.
Уже было сказано, что Эрнестина Федоровна не решалась или же не унижалась до разговоров о той, которая встала между нею и мужем. И здесь, по-видимому, проявлялись не только свойства ее духа, но и беспредельность ее любви.
В 1850 году ей исполнилось сорок лет, ею уже не владела та молодая сила страсти, которая запечатлена в обращенных к ней тютчевских стихотворениях 30-х годов. Но любовь ее все же была безгранична. Ее падчерица Дарья писала сестре Анне о том., как Эрнестина Федоровна встречала мужа на дороге из Рославля в Овстуг в августе 1855 года: «Дважды в день напрасно ходили на большую дорогу, такую безрадостную над серым небом… По какой-то интуиции она (Эрнестина Федоровна. — В.К.) велела запрячь маленькую коляску, погода прояснилась… и мы покатили по большой дороге… Каждое облако пыли казалось нам содержащим папу, но каждый раз было разочарование; то это было воловье стадо, то телега… Наконец, доехав до горы, которая в 7 верстах от нас… мама прыгает прямо в пыль… У нее было что-то вроде истерики… Если бы папа не приехал в Овстуг, мама была бы совсем несчастна».
К этому времени, по-видимому, сложилось примирение с невыносимой, казалось бы, ситуацией. Ведь за два года до того, когда Эрнестина Федоровна уехала в Германию и провела там целый год, она, вероятнее всего, склонялась к мысли о том, чтобы вообще не возвращаться. 29 сентября 1853 года Тютчев так отвечал на письмо жены: «Ты перестала, как ты утверждаешь, чему-либо верить и написала мне такие страшные слова, что ты для меня всего лишь старый гнилой зуб; когда его вырывают, больно, но через мгновение боль сменяется приятным ощущением пустоты…»
Тютчев, как и всегда в таких случаях, решительно возражал жене, отрицавшей его любовь к ней. И в этом выражалось трудно понимаемое, даже, пожалуй, пугающее раздвоение его души. Можно доказывать, что субъективно, внутри мятущегося сознания он был по-своему честен и прав. Но едва ли уместно оправдать его с объективной точки зрения.
Он вопрошал Эрнестину Федоровну в письме нз Москвы, где он проводил свой месячный отпуск, в Овстуг (от 2 июля 1851 года): «Что же произошло в глубине твоего сердца, что ты стала сомневаться во мне, что перестала понимать, перестала чувствовать, что ты для меня — всё, и что сравнительно с тобою все остальное — ничто? — Я завтра же, если это будет возможно, выеду к тебе. Не только в Овстуг, я поеду, если это потребуется, хоть в Китай, чтобы узнать у тебя, в самом ли деле ты сомневаешься и не воображаешь ли ты случайно, что я могу жить при наличии такого сомнения…»
Строго говоря, это «все» и это «ничто», написанные Тютчевым, были неправдой. Он, кстати сказать, так и не собрался тогда в Овстуг. По всей вероятности, он в то время приехал в Москву вместе с Еленой Александровной и их новорожденной дочерью (возможно, для того, чтобы окрестить ребенка, ради сохранения тайны, в московской, а не петербургской церкви). А.И. Георгиевский свидетельствовал, что Елена Александровна «привыкла проводить лето и осень вместе (с Тютчевым. — В.К.) или в Москве, или за границей».
Любовь к Елене Денисьевой была для поэта, но его слову, «всею… жизнью». До нас не дошло его писем к ней, но, вероятно, в них тоже содержались это «все» и это «ничто», которые мы читаем в письме к Эрнестине Федоровне.
По отдельным мелким подробностям нетрудно убедиться, что Тютчев постоянно стремился как бы отвоевать для Елены Александровны возможно более прочное место в своей жизни. Так, в январе 1853 года он просит своих дочерей от первого брака Екатерину и Дарью послать приветственное письмо тетке Елены Александровны (вспомним, что последняя была наставницей этих дочерей поэта в Смольном). Смущенная Екатерина обращается по этому поводу к старшей своей сестре Анне, которая дает ей (в письме от 25 января 1853 года) весьма дипломатичную рекомендацию: «Скажи просто маме (то есть мачехе. — В.К.): папа советует написать старушке Денисьевой, нам очень этого не хочется. Думаешь ли ты, что это необходимо? — Таким образом, вы сразу узнаете, считает ли она это желательным».
Неизвестно, было ли отправлено такое письмо, но стоит упомянуть, что через год с лишним, весной 1854 года, Дарья сообщила Екатерине: «Я увидела (на раздаче шифров6 в Смольном) мадемуазель Денисьеву, но очаровательно то, что мы обе сделали вид, будто мы лучшие в мире подруги, и на самом деле я чувствовала себя с пей совершенно свободно, особенно когда заметила ее стесненный и смиренный вид, который тронул меня».
Широко распространено мнение, что Елена Александровна из-за своей незаконной любви превратилась в своего рода парию. Но если это и было так, то лишь в самом начале ее отношений с поэтом. С годами она так или иначе вошла в круг людей, близких Тютчеву. Так, в 1863 году, рассказывая в письме к своей сестре Марии, что приезд ее с Тютчевым в Москву откладывается, она сетует: «Я не застану в Москве Сушкова, зятя Федора Ивановича, и это большая и серьезная неприятность для меня». Еще через год поэт писал той же Марии: «Великая княгиня Елена была одною из тех, кто недавно говорил мне о ней (Денисьевой. — В.К.) с наибольшей симпатией». Из этого ясно, что «отверженность» Елены Александровны (хотя бы в поздние годы) сильно преувеличена.
Дочь поэта от первого брака так сообщала своей тетке Дарье Ивановне о болезни Елены Александровны: «Он (Тютчев. — В.К.) опасается, что она не выживет и осыпает себя упреками; о том, чтобы нам с ней повидаться7, он даже не подумал; печаль его удручающа, и у меня сердце разрывалось».
Известно также, что Елена Александровна участвовала во встречах Тютчева с рядом государственных и политических деятелей — например, Деляновым и Катковым.
Вообще, несмотря на горестные и тяжкие стороны своего положения, Елена Александровна со временем смирилась с ним. По словам Георгиевского, «ей нужен был только сам Тютчев и решительно ничего, кроме него самого». Но есть немало свидетельств, что и сам поэт всегда стремился не разлучаться с Еленой Александровной, насколько это было возможно. Он писал о ней впоследствии: «Она — жизнь моя, с кем так хорошо было жить, так легко и так отрадно…» Он говорил в стихах, написанных 10 июля 1855 года на даче, которую Денисьевы снимали возле Черной речки, где
… в покое нерушимом
Листья веют и шуршат.
Я, дыханьем их обвеян,
Страстный говор твой ловлю…
Слава Богу, я с тобою,
А с тобой мне — как в раю.
В этом же стихотворении — проникновенные строки:
Лишь одно я живо чую.
Ты со мной и вся во мне.
А.И. Георгиевский писал о Елене Александровне: «Это была натура в высшей степени страстная, требовавшая себе всего человека, а как мог Федор Иванович стать вполне ее, «настоящим ее человеком», когда у него была своя законная жена, три взрослые дочери и подраставшие два сына и четвертая дочь».
Такого рода соображениями воспоминания мужа сестры Елены Александровны вообще изобилуют. Но нельзя не видеть, что он был человеком совсем иного, далекого и от Тютчева, и от Елены Денисьевой склада и характера; в нем чувствуется нечто «каренинское». И едва ли будет преувеличением сказать, что Елена Александровна воспринимала поэта именно как «вполне ее» человека, несмотря на все внешние преграды между ними. Это, разумеется, отнюдь не значит, что отношения — даже и в поздние- годы их любви, когда Елена Александровна со многим примирилась, — были безоблачными или хотя бы спокойными. Сам поэт рассказал позднее об одном из мучительных столкновений между ними: «Я помню, — писал он 13 декабря 1864 года, — раз как-то в Бадене8, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов и так мило, с такой любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя (не имя, которого она не любила, но она). И что же… вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование не совсем великодушно, что, зная, до какой степени я весь ее («ты мой собственный», как она говорила), ей нечего, незачем было желать и еще других, печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности… О, как она была права в своих самых крайних требованиях…»
Но жизненная коллизия была в точном смысле слова неразрешимой; поэт безусловно не мог разорвать отношения с Эрнестиной Федоровной. Об этом ясно говорят те около 300 писем, которые он послал ей за четырнадцать лет своей любви к Елене Денисьевой. В его письмах подчас почти прорывается признание, — хотя вообще-то он как раз старается погасить, заглушить его. Еще 2 июля 1851 года, через год после начала своей любви, он пишет из Москвы в Овстуг, куда несколько недель назад уехала Эрнестина Федоровна, — пишет в ответ на ее письмо, полное сомнений: «Известно ли тебе, что со времени твоего отъезда я, несмотря ни на что, и двух часов сряду не мог считать твое отсутствие приемлемым… Это сильнее меня. Я с горьким удовлетворением почувствовал в себе что-то, что незыблемо пребывает, несмотря на все немощи и колебания моей глупой природы. А знаешь, что еще больше разбередило этот цепкий инстинкт — столь же сильный, столь же себялюбивый, как инстинкт жизни… Скажу тебе напрямик. Это предположение, простое предположение, что речь шла о необходимости сделать выбор, — одной лишь тени подобной мысли было достаточно, чтобы я почувствовал бездну, лежащую между тобою и всем тем, что не ты…
Во многом я бывал неправ… Я вел себя глупо, недостойно… По отношению к одной тебе я никогда не был неправ, и это по той простой причине, что мне совершенно невозможно быть неправым по отношению к тебе…
Итак, я отправляюсь в дорогу и выберу кратчайший путь… Мне не терпится позавтракать с тобою у тебя на балконе…» (Речь идет о балконе овстугского дома.)
Нельзя закрыть глаза на то, что с объективной точки зрения здесь нет правды, хотя Тютчев и уверяет, что не может быть «неправым». И он так и не отправился тогда в дорогу и приехал в Овстуг лишь на следующее лето.
Но правда все же сказывается — в словах о том, что ему невозможно «сделать выбор»…
По прошествии полутора лет, 17 декабря 1852 года, поэт снова повторяет в письме к жене: «Пусть я делал глупости, поступки мои были противоречивы, непоследовательны. Истинным во мне является только мое чувство к тебе».
Но на следующий год отношения вновь обостряются, оказываясь на грани разрыва, и 29 сентября 1853 года Тютчев пишет Эрнестине Федоровне в Мюнхен, куда она уехала, быть может, навсегда: «Что означает письмо, которое ты написала мне в ответ на мое первое письмо из Петербурга? Неужели мы дошли до того, что стали так плохо понимать друг друга? Но не сон ли все это? Разве ты не чувствуешь, что все, все сейчас под угрозой? Ах, Нестерле, это так грустно, так мучительно, так страшно, что невозможно высказать… Недоразумение — страшная вещь, и страшно ощущать, как оно все углубляется, все расширяется между нами, страшно ощущать всем своим существом, как ощущаю я, что оно вот-вот поглотит последние остатки нашего семейного счастья, все, что нам еще осталось на наши последние годы и счастья, и любви, и чувства собственного достоинства, наконец… не говоря уж обо всем другом…»
Через полтора месяца Тютчев в письме к жене (от 16 ноября) высказывает почти явное признание во всем, что происходит с ним: «…Я ощущаю глубокое отвращение к себе самому и в то же время ощущаю, насколько бесплодно это чувство отвращения, так как эта беспристрастная оценка самого себя исходит исключительно от ума; сердце тут ни при чем, ибо тут не примешивается ничего, что походило бы на порыв христианского раскаяния…»
По возвращении Эрнестины Федоровны из Германии в мае 1854 года наступило примирение, хотя, конечно, и неполное. Осенью Тютчевы наконец обрели постоянное пристанище — квартиру на Невском проспекте около Армянской церкви в доме X.А. Лазарева, старинного друга семьи. Здесь, на третьем этаже, Тютчев жил почти до самой своей кончины, в постоянном общении с армянскими семьями Лазаревых, Абамелек, Деляновых.
Итак, с 1854 года устанавливается некое условное равновесие между теми двумя разными жизнями, которыми, в сущности, живет Тютчев. Впрочем, большую часть времени его отношения с женой, как уже говорилось, сводились к переписке. В октябре 1854 года она приехала в Петербург, но уже в ноябре Тютчев отправляется на несколько недель в Москву, по-видимому, вместе с Еленой Александровной.
Ранней весной следующего года Эрнестина Федоровна до поздней осени уезжает в Овстуг, куда Тютчев прибудет лишь на две недели в августе. Лето 1856 года она проводит в Прибалтике, а конец августа и сентябрь поэт живет в Москве. С начала мая до октября 1857 года жена его в Овстуге; поэт был там только часть августа. То же повторяется и в последующие годы, но Тютчев, занявший в 1858 году пост председателя Комитета иностранной цензуры, по причине или, может быть, под предлогом занятости, не приезжает в Овстуг вплоть до 1865 года (то есть до кончины своей возлюбленной), хотя каждый год, за исключением 1860-го, когда он на полгода уехал с Еленой Александровной за границу, бывает в Москве.
11 октября 1860 года в Женеве Елена Александровна родила второго ребенка — сына Федора; дочери Елене в это время уже девять лет. Последние четыре года жизни Елены Александровны поэт почти не расстается с ней надолго. С июня по ноябрь 1860 и с мая по август 1862 года они находились вместе за границей. Он постоянно ездит в эти годы в Москву (иногда даже дважды за год) и обычно вместе с Еленой Александровной.
А.И. Георгиевский писал в своих воспоминаниях о том, что в поэте выражалось «блаженство чувствовать себя так любимым такою умною, прелестною и обаятельною женщиною». Но тот же Георгиевский свидетельствует, что Елена Александровна была вовлечена в сферу главных тогда интересов Тютчева — интересов политических. Есть все основания полагать, что так было и ранее — особенно в период Крымской войны. Поэт просто не мог не говорить со своей возлюбленной о том, что так всезахватывающе и мучительно волновало его. И хотя до нас не дошло сведений об ее причастности к политическим страстям поэта до 1862 года, трудно сомневаться, что причастность эта возникла уже в первые годы их любви. Что же касается последних лет, вовлеченность Елены Александровны в политические интересы поэта ясна и несомненна.
Мы уже видели, что в первой половине 50-х годов Тютчев в прямом смысле слова жил политическими интересами. Его дочь Дарья писала сестре в апреле 1854 года — писала шутливо по форме, но не по существу; «Что до папы, он раздирается между вопросом Востока и вопросом Эрнестины, которые порой наступают друг на друга…» Следует только добавить, что «вопрос Эрнестины» был одновременно «вопросом Елены»… Тогда же Анна сообщает Дарье о разговоре с отцом, находящимся «в отчаянии от того, что делается в политическом мире, и предающем анафеме все мироздание». 10 января 1856 года Эрнестина Федоровна пишет брату по поводу унизительных для России переговоров в конце Крымской войны: «Муж мой впал в ярость, близкую к безумию…»
Но именно тогда Нессельроде был наконец смещен с должности министра иностранных дел, которую он — занимал с 1822 года, и на его место был назначен столь много претерпевший от него А.М. Горчаков. Внешняя политика России существенно изменилась, а Тютчев обрел возможность реально воздействовать на нее.
15 апреля 1856 года Горчаков приступил к своим обязанностям, а уже 18 апреля Эрнестина Федоровна писала брату: «Кн. Горчаков всегда был расположен к моему мужу… В данный момент муж мой у своего нового начальника, кн. Горчакова».
Через год, 7 апреля 1857 года, Тютчев производится в действительные статские советники, то есть генеральское звание; этот чин присваивался не на основе выслуги лет, подобно предшествующим, но только «по высочайшему соизволению». 25 мая поэт пишет жене: «Я только что от Горчакова, которого часто видал последнее время… Мы стали большими друзьями и совершенно искренне. Он — положительно незаурядная натура с большими достоинствами, чем можно предположить по наружности. У него — сливки на дне, а молоко на поверхности». Следует сразу же оговорить, что впоследствии Горчаков часто разочаровывал поэта; но поначалу ему казалось, что тот способен неукоснительно идти по истинному пути.
Осенью того же года отношения с Горчаковым привели к очень весомому результату: Тютчев получил предложение стать основателем и редактором политического издания — «нового журнала или чего-то в этом роде», — которое призвано было непосредственно воздействовать на внешнеполитический курс страны. Перед поэтом как будто бы открывался путь осуществления его заветных идей.
Но Тютчев в конечном счете не занял этот, казалось бы, столь желанный ему пост. Кстати сказать, еще летом Горчаков предлагает поэту писать статьи для субсидируемой русским правительством бельгийской газеты «Ле Норд», но Тютчев, по свидетельству жены, сказал, что он «может писать только вещи, которые говорить нельзя, и, следовательно, воздерживается».
А в ответ на предложение Горчакова стать полновластным редактором нового журнала поэт написал в ноябре 1857 года в высшей степени замечательную записку «О цензуре в России», которая была опубликована лишь через полтора десятилетия, за два с половиной месяца до кончины автора. В этой записке он объяснял, на каких основаниях может согласиться издавать журнал или газету. Тютчев говорил здесь прежде всего об одном из очевидных уроков Крымской катастрофы: «Нам было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет, без существенного вреда для общественного организма. Видно, всякое ослабление и заметное умаление умственной жизни в обществе неизбежно влечет за собою усиление материальных наклонностей и гнусно-эгоистических инстинктов.
Даже сама власть с течением времени не может уклониться от неудобств подобной системы. Вокруг той сферы, где она присутствует, образуется пустыня и громадная умственная пустота, и правительственная мысль, не встречая извне ни контроля, ни указания, ни малейшей точки опоры, кончает тем, что приходит в смущение и изнемогает над собственным бременем еще прежде, чем бы ей суждено пасть под ударами злополучных событий».
Далее Тютчев констатировал, что новая власть, пришедшая после смерти Николая I и Крымской трагедии, уразумела, «что наступила пора ослабить чрезвычайную суровость предшествующей системы». Но, спрашивал поэт, в «вопросе о печати достаточно ли того, что сделано…?… Направление мощное, разумное, в себе уверенное направление — вот чего требует страна, вот в чем заключается лозунг всего настоящего положения нашего».
Но такое направление подразумевает глубокую связь с интересами и духовной жизнью народа. «Без этой искренней связи, — писал Тютчев, — с действительною душою страны, без полного и совершенного пробуждения ее нравственных и умственных сил, без их добровольного и единодушного содействия при разрешении общей задачи — правительство, предоставленное собственным силам, не может совершить ничего, столько же извне, как и внутри… Судьба России уподобляется кораблю, севшему на мель, который никакими усилиями экипажа не может быть сдвинут с места, и лишь только одна приливающая волна народной жизни в состоянии поднять его и пустить в ход».
Вот какую «программу» считал необходимым осуществлять Тютчев в том журнале или газете, которыми он согласился бы руководить.
Но для того чтобы это стало возможным, было, в свою очередь, необходимо решительное изменение взаимоотношений правительства и печати. Цензура, продолжал Тютчев, «в эти последние годы тяготела над Россией как истинное общественное бедствие… Позвольте мне сказать вам со всею откровенностью, — обращался поэт к Горчакову, — что до тех пор, покуда правительство не изменит совершенно, во всем складе своих мыслей, своего взгляда на отношения к нему печати, покуда оно, так сказать, не отрешится от этого окончательно, до тех пор ничто поистине действительное не может быть предпринято с некоторыми основаниями успеха; и надежда приобрести влияние на умы с помощью печати… оставалась бы постоянным заблуждением».
Иначе говоря, Тютчев полагал, что при существующих отношениях правительства и печати бессмысленно браться за издание журнала или газеты. Его записку завершает поистине неожиданное и, по всей вероятности, поразившее ее адресата рассуждение. Указывая на то, что заграничные издания Александра Герцена широко распространяются и имеют громадное влияние в России, Тютчев открыто говорит, что газета, поставившая, например, задачу полемики с Герценом, «могла бы рассчитывать на известную долю успеха лишь при условиях своего существования, несколько подходящих к условиям своего противника. Вашему доброжелательному благоразумию предстоит решить, возможны ли подобные условия в данном положении, вам лучше меня известном, и в какой именно мере они осуществимы». Если они в самом деле осуществимы, заключал поэт, «приведение в действие того проекта, который вам угодно было сообщить мне, казалось бы хотя и нелегким, но возможным».
Важно пояснить, что Тютчев, хотя его никак нельзя считать близким Герцену мыслителем, все же разделял многие и критические, и позитивные идеи последнего.
Известно, что даже в 1865 году, когда налицо было резкое размежевание всех общественных сил России, Тютчев, находясь в Париже, дважды встретился с Герценом (8 марта они обедали вместе, а на следующий день продолжали беседу).
Но сейчас речь идет об условии, которое поэт в 1857 году предъявил министру иностранных дел, члену Государственного Совета Горчакову — предоставить ему как редактору новой газеты или журнала возможность говорить более или менее свободно, подобно тому, как говорит за границей Герцен, с 1 июля 1857 года издававший свой «Колокол».
Этот своего рода ультиматум, выдвинутый Тютчевым, не был всецело беспочвенным. Ведь именно в ноябре 1857 года, когда поэт работал над своей запиской, появился первый официальный рескрипт об отмене крепостного права. Тютчев имел достаточные основания предполагать, что его условие может быть принято.
И все же оно не было принято. Однако Тютчев со временем сумел найти возможности для реального — хотя и не имевшего никаких официальных «гарантий» — воздействия на внешнюю политику России, — о чем мы еще будем подробно говорить.
Горчаков предоставил поэту не очень обременительный, но достаточно высокий пост при министерстве иностранных дел: 17 апреля 1858 года действительный статский советник Тютчев был назначен председателем Комитета цензуры иностранной. На этом посту, несмотря на многочисленные неприятности и столкновения с правительством (в 1866 году ему даже угрожала отставка), Тютчев пробыл пятнадцать лет, до самой своей кончины. Благодаря своей должности он являлся одновременно членом Совета Главного управления по делам печати.
Комитет цензуры иностранной был по тем временам довольно крупным учреждением, насчитывавшим несколько десятков сотрудников; среди них находились, между прочим, поэты Аполлон Майков и Яков Полонский. Комитет просматривал все иностранные книги, ввозимые в Россию. В то время, когда Тютчев приступил к своим обязанностям, поток этих книг как раз резко увеличился и возрастал с каждым годом. Так, в 1858 году были ввезены миллион шестьдесят с лишним тысяч томов, в 1860-м — 2 миллиона 250 тысяч томов, в 1862-м — 2 миллиона 720 с лишним тысяч томов и т.д.
Если соотнести эти цифры с количеством людей, читавших на иностранных языках, обнаружится вся их громадность.
В 1870 году Тютчев записал в альбом одного из своих сотрудников, П.А. Вакарова, следующий экспромт:
Веленью высшему покорны,
У мысли стоя на часах,
Не очень были мы задорны.
Хотя и с штуцером в руках.
Мы им владели неохотно,
Грозили редко и скорей
Не арестантский, а почетный
Держали караул при ней.
Достаточно сопоставить количество разрешенной литературы с запрещенной, чтобы убедиться в правоте тютчевских строк. Так, в 1862 году Комитетом было запрещено всего 285 книг, в 1863 — 142 книги. При этом Тютчев более всего обращал внимание на книги «безнравственного» характера. Так, в одном из отчетов комитета сказано: «В особенности с большею строгостию старался я действовать относительно так называемых легких произведений литературы, поэтому запрещению… подверглись более романы, повести и детские книги».
Но вообще Тютчев не придавал большого значения своим делам в цензуре. Гораздо важнее была для него прямая связь с Горчаковым, возможность влияния на русскую печать (уже хотя бы в качестве члена Совета Главного управления по делам печати) и близость к правительству, двору, наконец, к самому императору. Можно без всякого преувеличения утверждать, что поэт буквально не упускал малейшей возможности воздействовать на внешнюю политику России.
На протяжении пятнадцати с лишним лет он стремился, если угодно, «воспитывать» и направлять Горчакова, подчас сознательно преувеличивая как его понимание мировых задач России, так и реальные его успехи в дипломатии.
21 апреля 1859 года Тютчев писал Горчакову: «…Позвольте мне еще раз сказать вам, и из самой глубины моего сердца: да поможет вам Бог, ибо более, чем когда-либо, вы — человек необходимый, человек незаменимый для страны… Я, кажется, достаточно вас знаю, князь, чтобы быть уверенным в том, что вы вполне разделяете горечь, которую испытываю я, утверждая это перед лицом настоящего положения».
Речь идет о назревшей войне между Францией и Австрией, — войне, в которой Россия должна была сделать нелегкий для нее выбор. Как мы помним, Нессельроде всегда выступал на стороне Австрии; в 1859 году при дворе и в правительстве было еще очень много прямых наследников этой линии. Тютчев даже и позднее, как свидетельствовала его жена в 1861 году, с негодованием видя «этих старых болванов на своих прежних местах, говорил… что они напоминают ему волосы и ногти покойников, продолжающие некоторое время расти в после погребения».
В том самом 1861 году министр внутренних дел Валуев записал в своем дневнике (16 апреля), что сын Нессельроде рассказал ему, как, выходя в отставку, отец его на пост министра иностранных дел «рекомендовал Будберга, а о Горчакове сказал государю: «Он был у меня в Министерстве в течение тридцати лет, и я всегда считал, что он не пригоден ни к чему серьезному». Ранее, 9 апреля, Валуев записал: «Был у меня Нессельроде filius9 и сказывал, что увольнение Тимашева10 дело завершенное, как сам он от него слышал. Нессельроде горою стоит за Тимашева и Герштейнцвейга11. Он говорил: я тесно связан как с одним, так и с другим».
И это была, конечно, только одна из политических группировок, непримиримо враждебных Тютчеву. Тимашев был тогда действительно уволен, но позднее он сумел при поддержке своих единомышленников занять еще более высокое положение и пользовался громадной властью.
В своем только что цитированном письме Горчакову поэт говорил далее: «Не опасности создавшегося положения сами по себе пугают меня за вас и за нас. Вы обретете в самом себе достаточно находчивости и энергии, чтобы противустать надвигающемуся кризису. Но что действительно тревожно, что плачевно выше всякого выражения, это — глубокое нравственное растление среды, которая окружает у нас правительство и которая неизбежно тяготеет также над вами, над вашими лучшими побуждениями».
И поэт взывал к мужеству и бдительности Горчакова: «…В настоящее время союз с Австрией или какой бы то ни было постыдный полувозврат к этому союзу не имеет более определенного и особенного смысла и значения, но, — подчеркивал поэт, — сделался как бы кредо всех этих подлостей и посредственностей, как бы лозунгом и условным знаком всего антинационального по эгоизму или происхождению…
И вот эти-то люди являются вашими естественными врагами… — предупреждал Горчакова Тютчев. — Они не простят вам разрушения системы, которая представляла как бы родственные узы для всех этих умов, как бы политическое обиталище всех этих убеждений. Это — эмигранты, которые хотели бы вернуться к себе на родину, а вы им препятствуете…»
Далее Тютчев указывал, что «перед лицом создавшегося положения» Горчаков «нуждается в более твердой точке опоры, в национальном сознании, в достаточно просвещенном национальном мнении, а тут, как нарочно, неумелость или взаимные предубеждения позволили накопиться недоразумениям между печатью и правительством…
Одним словом, князь… нет против среды, осаждающей и более или менее угнетающей вас… нет, говорю я, другой точки опоры, другого средства противодействия, как во мнении извне, в великом мнении — в выражении общественного сознания… Но для этого нужно разрешить ему высказаться и даже вызывать его на это…»
И Тютчев заключал письмо вполне конкретным предложением: «Я еду, князь, на три или на четыре дня в Москву. Я увижу кое-кого из этих господ… Что хотите, чтобы я им передал?» (Поэт имел в виду знакомых ему московских редакторов журналов и литераторов.)
И через некоторое время Тютчев сумел в полной мере осуществить поставленную им перед собой задачу. В 1863 году он с обычной для него при разговоре о самом себе иронией, но не без известной гордости сообщал жене из Москвы, где он провел полтора месяца (письмо от 1 августа): «Здесь я жил в самом центре московской прессы, между Катковым и Аксаковым, служа чем-то вроде официального посредника между прессой и Министерством иностранных дел. Я могу, в сущности, смотреть на свое пребывание в Москве, как на миссию, — не более бесполезную, чем многие другие…»
Взаимоотношения Тютчева с М.Н. Катковым (1818–1887), редактором газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», — сложный и острый вопрос, уже хотя бы потому, что Катков известен как крайний реакционер в политике и идеологии. Правда, эта репутация окончательно сложилась не тогда, когда Тютчев имел с ним более или менее тесные отношения, но позднее, в конце 1860-х и особенно в 1870-х годах.
Катков прошел долгий и сложный путь. В 40-е годы он был учеником и соратником Белинского, а в 50-х выступал как заведомый «либерал». В 1855 году не кто иной, как Чернышевский назвал его «очень замечательным мыслителем». В 1859 году Катков дружелюбно встречался в Лондоне с Герценом (хотя вскоре они резко разойдутся). Нельзя не сказать и о том, что в журнале Каткова «Русский вестник» были опубликованы такие основные художественные произведения эпохи, как «Губернские очерки» Щедрина, «Накануне» и «Отцы и дети» Тургенева.
С годами Катков все более «правеет», но до конца 1870-х годов он постоянно печатает лучшие произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова, Лескова и других крупнейших писателей и поддерживает с ними тесные связи, хотя и не без конфликтов.
Тютчев, несмотря на некоторые точки соприкосновения с Катковым, никогда не был его единомышленником, а в целом ряде важнейших проблем самым решительным образом расходился с ним.
Так, одной из основ катковской идеологической программы было установление господства «классического образования», которое долженствовало сковать с самого начала свободу и широту мысли, ввести духовную жизнь молодежи в узкие и канонические рамки. Между тем Тютчев в письме к дочери Анне безоговорочно утверждал, имея в виду Каткова и его единомышленников: «…Их так называемое классическое образование — это всего-навсего система всеобщего отупления. Благодаря дуракам, Россия оказалась в руках педантов».
При этом данная программа была в глазах поэта прямым и последовательным воплощением всей сути Каткова как идеолога. Так, он писал Анне же о Каткове и его ближайшем сподвижнике П.М. Леонтьеве: «Зная обоих лиц… можно было a priori ожидать всяческих чрезмерностей, в особенности же в так называемой классической системе, которая всегда представлялась мне самым жалким из недоразумений, одним из тех устаревших предрассудков, которые обличают в тех, кто еще его принимает, лишь расположение к мономании. А это-то расположение достаточно уже выказало себя в лицах, о которых идет речь, даже в сфере их публицистической деятельности… Они вносят в это дело (образования. — В.К.) тот же дух исключительности и те же чрезмерности, как и во все, что от них исходит». В письме к жене от 9 июля 1866 года Тютчев с предельной резкостью сказал о Каткове, что «для журналиста… очень неудобно позволить себе страдать галлюцинациями больного воображения».
Наконец, 12 ноября 1870 года он продиктовал дочери Марии письмо Ивану Аксакову, в котором со всей резкостью утверждалось: «Что это за патриотизм, что это за преданность русскому делу, которые, как в последних статьях «Московских ведомостей», всегда готовы жертвовать им своему личному мнимо-обиженному самолюбию? Или как же объяснить себе хоть последнюю выходку Каткова в передовой статье 11-го ноября?.. Что могла бы высказать более враждебного, более ядовитого для России в данную минуту самая неприязненная России… газета?»
На следующий день Тютчев писал влиятельной дочери председателя совета министров Блудова, что одну из статей «Московских ведомостей» «поистине нельзя не рассматривать как подлость, принимая в расчет тот авторитет, коим пользуется газета Каткова… Нет другого слова, чтобы определить такой поступок».
Резкое неприятие многих — притом основных — качеств Каткова очевидно. Почему же все-таки Тютчев в 60-е годы стремился завязать с ним прочные отношения? Это объясняется прежде всего тем, что Катков сумел завоевать себе право говорить в своей газете такие вещи, которые были безусловно невозможны в каких-либо других русских изданиях. Поэт не без определенного восхищения писал Каткову: «…Благодаря вам, наконец, и у нас — ив нашей правительственной среде, — сила печатного слова признана не как факт только, но и как право».
Иначе говоря, в катковской газете были в той или иной мере осуществлены именно те условия, которые Тютчев выдвигал как необходимые в своей записке 1857 года о цензуре, переданной Горчакову. Поэт не смог бы их добиться и именно потому не взялся за издание своей собственной газеты или журнала. Катков же в силу своих личных качеств и внешних обстоятельств сумел отвоевать определенную «свободу» печатного слова.
Историк Ю.Б. Соловьев в своем трактате «Самодержавие и дворянство в конце XIX века» (Л, 1973) писал, что катковская газета означала появление «рядом с правительством и отдельно от него довольно значительной политической силы… В самодержавной системе появился со стороны самозванный судья правительства… Принимая Каткова во всей его неистовости, допуская его постоянные нападки на уполномоченных представителей власти самого высокого ранга, власть как бы признавала… что есть такая сила, как общественное мнение, и что ей подсудны государственные дела… Общество в лице Каткова оказывалось в своем понимании выше самой власти, все время сбивавшейся с истинного пути».
Именно это ценил Тютчев в катковской газете и очень энергично стремился к тому, чтобы на страницах «Московских ведомостей» открыто и решительно выражались его внешнеполитические идеи. Случилось так, что он обрел прямого исполнителя этого замысла в лице А.И. Георгиевского — мужа сестры Елены Денисьевой.
Александр Иванович Георгиевский (1830–1911) — историк, преподававший в одесском Ришельевском лицее (одном из наиболее культурных тогда учебных заведений) и редактировавший некоторое время газету «Одесский вестник». Летом 1862 года он навестил сводную сестру своей жены, Елену Александровну, и познакомился у нее с Тютчевым. Выяснилось, что Георгиевский знает и исключительно высоко ценит не только стихи, но и политические идеи поэта.
Это весьма удивило Тютчева. «Вот чего уж я никак не мог предполагать, — говорил Тютчев, — чтобы эти взгляды нашли у нас себе отголосок не в Москве, не в Петербурге, а в отдаленной Одессе, на берегу Черного моря». К этому следует добавить, что поэт видел в Черноморье один из узловых центров русского исторического развития, и распространение его идей на этой окраине России — а Георгиевский излагал их в своих лицейских лекциях по всеобщей истории — должно было особенно заинтересовать его.
За время пребывания Георгиевского в Петербурге, как он вспоминал впоследствии, «раз или два раза в неделю мы непременно сходились у Лели с Тютчевым за обеденным ее столом». Многие часы проходили «в самой оживленной и разнообразной беседе… Тютчев хорошо знал все, что делалось и что предполагалось делаться в высших правительственных сферах, все, что творилось повсеместно в России».
Как раз в это время Георгиевский получает предложение от знакомого ему соредактора Каткова, П.М. Леонтьева, стать одним из ведущих сотрудников «Московских ведомостей». Тютчев горячо советовал принять это предложение; в ноябре 1862 года Георгиевский поселился в Москве, в доме Каткова.
Он быстро стал деятельнейшим участником газеты, руководствуясь при этом стремлением, по его собственным словам, «создать из нее великую и благотворную силу, так чтобы мало-помалу обсуждению ее стали доступны все дела внешней и внутренней политики России и чтобы к голосу ее прислушивались все общественные и государственные деятели…»
Георгиевский три или даже четыре раза в неделю писал передовые статьи «Московских ведомостей», которые были наиболее весомой частью газеты. «Хвала за них, — вспоминал он, — воздавалась только одному Каткову. Это очень сердило и возмущало Ф.И. Тютчева».
Но гораздо более важно, что, как достаточно хорошо нам известно, многие статьи Георгиевского в значительной мере были… тютчевскими. В своих воспоминаниях Георгиевский открыто признал: «Насколько мог, я пользовался в моих статьях его сообщениями и даже особенно удачными его высказываниями», — то есть воздействие поэта сказывалось даже в стиле внешнеполитических передовиц «Московских ведомостей».
2 января 1865 года Тютчев писал Георгиевскому: «Совершившаяся уже коалиция всех антирусских в России направлений есть факт очевидный, осязательный… Высказана, как принцип, безнародность верховной русской власти, то есть медиатизация русской народности» и т.д. И в передовой статье «Московских ведомостей» от 10 января, написанной Георгиевским, не только воспроизведены эти мысли Тютчева, но и повторены его особенные формулы — «безнародность верховной русской власти» и «медиатизация русской народности» (то есть лишение ее независимости).
Насколько велик был резонанс подобных внешнеполитических передовиц, ясно свидетельствует рассказ тогдашнего русского посла в Париже: «…Когда в самый разгар нашего столкновения с державами (в 1863 году; речь об этом пойдет ниже. — В.К.) приходили ко мне из России газеты и деловые бумаги, я принимался прежде всего не за депеши нашего министерства (то есть министерства иностранных дел. — В.К.), а за «Московские ведомости»: я всегда предпочитал оригинал копии».
Разумеется, посол не знал, что за многими из тех статей, в которых он справедливо усматривал «первоисточники» дипломатических депеш Горчакова, стоял Тютчев, действовавший через одного из ведущих сотрудников газеты — Георгиевского…
В отношениях Тютчева с Георгиевским и, далее, самой газетой так или иначе участвовала и Елена Денисьева. Так, летом 1863 года, вспоминал Георгиевский, вслед за Тютчевым «приехала в Москву и наша дорогая Леля и поселилась в нашей городской квартире в доме университетской типографии» (здесь и печатались «Московские ведомости» и «Русский вестник»; ныне дом 28 по Пушкинской улице; именно здесь, кстати сказать, в 1860—1870-х годах были впервые напечатаны почти все основные произведения Толстого, Достоевского, Лескова, Гончарова, Тургенева и многие стихи Тютчева и Фета). Хотя Тютчев, конечно, не раз встречался с Катковым и Леонтьевым, между ними не сложились сколько-нибудь доверительные отношения. Георгиевский недвусмысленно писал, что «Тютчев не питал к ним (Каткову и Леонтьеву. — В.К.) особенного личного сочувствия, так же как и они к нему». В то же время «Московские ведомости» были очень важны для Тютчева как влиятельнейшая политическая трибуна. И. Георгиевский, а также сама Елена Александровна явились здесь посредниками.
Елена Александровна по-своему даже подружилась с Катковым. Они стали впоследствии крестными отцом и матерью сына Георгиевского, и она писала по этому поводу: «Мой дружеский привет Михаилу Никифоровичу, — скажите ему, что я очень счастлива быть связанной с ним духовным родством». Все отношения Тютчева с газетой шли через Елену Александровну. «С того Бремени, как я стал работать в редакции «Московских ведомостей», — вспоминал Георгиевский, — я высылал их Леле, и она ежедневно читала их передовые статьи Федору Ивановичу, и чтение это… давало поводу к бесконечным беседам между ними, а в этом и заключалось истинное блаженство для Лели».
Сама Елена Александровна в письме от 3 марта 1863 года к своей сестре просит передать ее слова Георгиевскому: «Скажи ему, что я с большим интересом читаю его газету, которую он мне посылает, и что Тютчев в восторге от некоторых статей». И повторяет в письме от 8 мая: «Скажи Александру, что я каждый день читаю Тютчеву «Московские ведомости» и что чтение это живо нас интересует…»
Все это нисколько не удивительно, если помнить, что в статьях Георгиевского выражались тютчевские политические идеи. Весьма многозначителен следующий рассказ Георгиевского о Тютчеве: «Бывая во всех высших светских кругах, встречаясь со всеми министрами и высшими сановниками Империи… он при всяком подходящем случае прославлял мою деятельность в «Московских ведомостях» и мои в них передовые статьи».
Особенно замечательно, что поэт «прославлял» подчас даже те статьи, которые и сам Катков не смог отстоять в цензуре; Георгиевский присылал эти запрещенные статьи Леле в виде гранок. 3 марта 1863 года Елена Александровна сообщила сестре о Тютчеве: «Он метал гром и молнии по поводу одной запрещенной статьи. Император и императрица имели случай ее прочесть лично…» («случай» этот, без сомнения, устроил Тютчев).
Естественно встает вопрос о том, как относился предельно властный и самолюбивый Катков к тютчевскому «использованию» его газеты? Ведь известно, что редактор «Московских ведомостей» был далеко не единомышленником Тютчева и отнюдь не питал к нему личных симпатий. Притом еще поэт нередко не мог удержаться от самых резких суждений по адресу Каткова, что становилось известным последнему. В конце концов Катков через одного из общих знакомых передал Тютчеву свое возмущение.
Поэт, не желая разорвать отношения с превратившимся в мощную политическую силу редактором, писал ему — явно без особой искренности: «Не знаю в результате каких сплетней — вольных или невольных… вы могли, почтеннейший М.Н., заподозрить меня в таком фантастическом извращении всех моих понятий и убеждений касательно вас…»
Истина же была в том, что Тютчев, весьма и весьма критически относясь к Каткову, стремился вовлечь его газету в сложную политическую игру — игру, другим основным объектом которой был Горчаков.
Существует мнение, что главную роль в установлении связи между Горчаковым и Катковым в 1863 году сыграл тогдашний министр внутренних дел П.А. Валуев. Однако факты свидетельствуют об ином развитии событий. Еще 24 февраля 1863 года, после запрещения цензурой одной из внешнеполитических статей А.И. Георгиевского в катковской газете, Тютчев написал возмущенное письмо Валуеву и, очевидно, затем беседовал с ним по этому неводу. 29 марта Валуев обратился с письмом к Каткову, предлагая заключить с ним своего рода договор о взаимной поддержке. И Тютчев, устанавливая прочный контакт между Катковым и Горчаковым, опирался и на мнение Валуева. 19 сентября 1863 года последний пишет Каткову, что ему необходимо приехать в Петербург в встретиться с Горчаковым (встреча состоялась в конце октября 1863 года). Но известно, что Тютчев стремился устроить эту встречу давно, и за письмом Валуева чувствуется его «рука».
В конечном счете именно Тютчев свел Горчакова а Каткова, двух влиятельнейших (с точки зрения внешней политики) людей страны, и прилагал все усилия к тому, чтобы оба они внушали друг другу не что иное, как тютчевские идеи. Являясь чуть ли не единственным прямым посредником между ними, Тютчев преподносил Каткову свои идеи как горчаковские, а Горчакову — в качестве катковских.
Выше цитировалось тютчевское письмо к Горчакову, в котором он призывал его найти необходимую точку опоры в печати. Каткову же он, в свою очередь, писал, например, 6 ноября 1863 года: «Благодарим усердно за вашу статью, в которой вы так верно и удачно определили наше настоящее положение и намекнули, какой программе мы должны следовать. Князь Г. был очень доволен статьей». То есть Каткову предлагалась опора на правительство в лице министра иностранных дел. Как говорил поэт в другом письме к Каткову, Горчаков, «может быть, единственный человек между нами, который и по своему влиятельному положению, и по своему усердию к общему делу имеет и силу и волю…».
Кстати сказать, статья, за которую Тютчев в цитированном письме «восхвалял» Каткова, была, по сути дела, внушена им самим. Конечно, поэт излагал свои идеи так, как будто они всецело исходят от Горчакова. Характерно, что всего через несколько дней после устроенной Тютчевым в конце октября 1863 года беседы Горчакова и Каткова (в которой он и сам участвовал) он пишет последнему (1 ноября): «Князь просил меня еще раз заявить вам, какое приятное впечатление он вынес из личного с вами знакомства и как более, нежели когда-либо, он дорожит дружным вашим содействием для общей пользы. Он изложил перед вами, со всеми их оттенками, наши политические отношения с первостепенными державами.
Теперь… князь желал бы еще отчетливее, еще убедительнее выяснить вам, как он разумеет наши отношения к Франции».
И далее Тютчев дает, в сущности, прямые «инструкции» Каткову, — причем трудно сомневаться, что это были его личные, а не горчаковские инструкции (ведь Горчаков всего несколько дней назад подробно говорил с Катковым). Так, в частности, отнюдь не горчаковская, но истинно тютчевская мысль видна в характеристике, которая дается в этом письме французскому императору Наполеону III: «В нем привыкли видеть осуществление какого-то чистейшего, безусловного мошенничества. — Он, конечно, мошенник, но подбитый утопистом, как и следует представителю революционного начала. И эта-то примесь дает ему такую огромную силу над современностью».
Тютчев в середине 60-х годов во многом осуществил то, к чему стремился начиная с 1857 года. С одной стороны, он сумел создать «твердую точку опоры» для Горчакова в лице «Московских ведомостей». Известный государственный деятель того времени Е.М. Феоктистов вспоминал впоследствии, что в 60-е годы сложилась «огромная популярность» Горчакова и «самым главным ее виновником был Катков»; он «создал репутацию князя Горчакова». Однако Феоктистов явно ошибался: «главным виновником» был, конечно же, Тютчев, который, так сказать, на высшем уровне дипломатического искусства заставил Каткова и его газету «работать» на Горчакова.
С другой же стороны, Тютчев сумел столь же искусно внушать и Каткову, и Горчакову свою внешнеполитическую программу, которая в конечном счете привела к замечательной победе. Уже в 1870 году Россия, в сущности, чисто дипломатическим путем ликвидировала наиболее тяжкие последствия своего жестокого поражения в Крымской войне.
Но об этом речь будет ниже. Сейчас нужно обратить внимание на то, сколь широкой и напряженной была политическая деятельность Тютчева в конце 50-х — первой половине 60-х годов. Для того чтобы показать ее во всем ее объеме, потребовался бы обширный трактат историко-дипломатического характера. Исходя из обрисованных выше фактов, есть все основания утверждать, что подлинным идейным и волевым истоком многих внешнеполитических акций России с начала 60-х и до начала 70-х годов был не кто иной, как Тютчев. При этом он не только не стремился к тому, чтобы обрести признание и славу, но, напротив, предпринимал все усилия для того, чтобы скрыть свою основополагающую роль, думая только лишь об успехе дела, в которое верил.
Тютчев вовлек так или иначе в свою деятельность многие десятки самых разных людей — от сотрудников газет и историков до министра иностранных дел и самого царя. При этом Тютчев никогда не упускал случая опереться на свои личные и родственные связи с людьми, способными оказать ту или иную помощь и поддержку. С современной точки зрения это даже может показаться чем-то не вполне этическим. Но в начале этой книги уже шла речь о том, что родственные отношения играли в прошлом веке существенно иную роль, нежели в наше время.
И не следует удивляться тому, что Тютчев постоянно «использует» для «политических» целей, скажем, своих дочерей Анну и Дарью, которые были фрейлинами императрицы. Позволительно даже высказать предположение, что, добиваясь этого положения для дочерей (ради чего пришлось употребить немало весьма неприятных ему усилий), Тютчев думал не только об их личных судьбах, но и о возможностях воздействия через их посредство на царя. Нам известно множество случаев, когда поэт обращался за помощью в своих политических предприятиях к дочерям, особенно к очень серьезно мыслящей и энергичной Анне. Не приходится уже говорить о том, что дочери давали Тютчеву самые точные сведения о настроениях при дворе.
В том самом 1863 году Франция, Англия и Австрия решили воспользоваться польским восстанием для самого жесткого нажима на Россию — вплоть до угрозы войны, подобной начавшейся за десять лет до того Крымской. Они направили России прямо-таки оскорбительные дипломатические ноты, к которым присоединились под давлением этих наиболее крупных держав почти все страны Запада — Италия, Швеция, Испания, Дания, Голландия, Португалия, Турция — и римский папа. Россия, казалось, опять была теперь, пользуясь тютчевским выражением 1854 года, «одна против всей враждебной Европы».
Тютчев испытывал глубочайшую тревогу, вполне основательно опасаясь, что правительство проявит «слабость», «непоследовательность», наконец, попросту, как он писал жене 8 июня, «бессилие ума, которое во всем проявляется в наших правительственных кругах». Поэт стремится всемерно воздействовать как на Горчакова, так и на Каткова, — для чего после целого ряда бесед с Горчаковым едет в середине июня в Москву.
Хорошо осведомленный князь В.П. Мещерский вспоминал позднее: «Когда наступила пора отвечать на дерзкие ноты европейских держав… вопрос: как ответить? далеко не был предрешенным… Во многих гостиных тогда… говорилось о том, что необходимо отвечать чуть ли не покорно и почтительно… Мало того, в Министерстве иностранных дел никто не имел уверенности, что князь Горчаков ответит Европе с подобающим России достоинством».
Сестра Тютчева Дарья писала в то время его дочери Екатерине: «Отец твой в отчаянии от антипатриотического настроения Петербурга». Об этом рассказывает и Мещерский: «…Достаточно было в то время видеть измученного страданиями и тоскою поэта и приятеля канцлера (т.е. Горчакова, который, впрочем, еще не имел тогда этого звания. — В.К.) Ф.И. Тютчева, чтобы догадываться, как нехорошо шли тогда дела в смысле русских интересов… Накануне дня, когда огласилась прекрасная ответная нота петербургского кабинета, Тютчев вечером заходил к Блудовым и там, сказавши, что мы уступаем Европе, разрыдался. Легко понять, как он обрадовался на другой день, прочитав… полный достоинства и гордой твердости ответ русского государя на дерзкое вмешательство Европы в дела России».
Мещерский, который писал свои воспоминания через тридцать с лишним лет после этих событий, неточно воспроизвел факты. Получается, что Тютчев, так сказать, пассивно ждал появления ответа на западные ноты и еще за день до того не знал об его содержании. На самом же деле поэт в течение июня — июля 1863 года участвовал во всей истории с враждебными нотами, несмотря даже на то, что был тогда болен. В первой половине июня он не раз встречался с Горчаковым и другими государственными и общественными деятелями в Петербурге, а в середине месяца выехал в Москву, где, как он рассказал в письме к жене от 1 августа, служил «чем-то вроде официозного посредника между прессой и Министерством иностранных дел».
Перед выездом в Москву поэт как бы заручился твердым обещанием Горчакова проявить силу и волю. 25 июня он писал из Москвы дочери Анне: «Здесь ждут ответов Горчакова на иностранные ноты с некоторым опасением, несмотря на все уверения, которые милейший князь уполномочил меня давать всем и каждому в его непоколебимой решимости не делать ни малейшей уступки… К несчастью, может случиться на сем свете — и уже не впервые, — что благодаря простому превосходству грубой силы нелепость восторжествует над разумом и правом».
Тютчев, конечно, сделал все для того, чтобы влиятельная московская пресса поддерживала «решимость» Горчакова в течение тех нескольких недель, пока «на верхах» решался вопрос об ответе на ноты. 20 июня он сообщает из Москвы жене в Овстуг: «Ноты получены 11-го сего месяца (то есть когда Тютчев был еще в Петербурге. В.К.). В настоящую минуту ответ уже должен быть составлен или почти. Он будет отрицательным…» Однако 27 июня он пишет жене: «Вчера, 26-го… должен был собраться Совет министров, чтобы ознакомиться с ответами на ноты держав… Слабость и непоследовательность правительства вызывают недоверие. Нельзя не отдавать себе отчета в том, что дело идет о самом существовании России. Я ожидаю худшего…»
«Здесь все еще находятся в той же тревоге, — сообщает он жене из Москвы 7 июля. — Ожидают, что завтра можно будет прочесть ответы князя Горчакова в «Журналь де Санкт-Петербург» (официальная правительственная газета на французском языке. — В.К.). Тем временем я получил письмо от Анны, все проникнутое негодованием и предсказывающее трусость и слабость с нашей стороны».
Наконец 11 июля Тютчев пишет жене: «…Вчера здесь прочли ответы Горчакова, принятые с всеобщим одобрением. Они написаны с достоинством и твердостью».
Месяц, протекший с момента получения западных нот до появления русского ответа на них, поэт провел в напряженной деятельности. И, между прочим, как бы противореча своему собственному рассказу о том, что Тютчев чуть ли не пассивно ждал этого ответа, Мещерский затем приоткрывает в своих воспоминаниях покров над «тайной дипломатией» Тютчева в это тревожное время. Он рассказывает, что в течение какого-то периода «ничего не было решено, и государь находился между нерешительностью Горчакова и своим собственным чутьем… На помощь второму — именно в тот вечер, когда отец Тютчев рыдал над ожидающим Россию срамом, — доблестная дочь его, Анна Федоровна, умоляла императрицу взять на себя инициативу и поддержать государя в его решимости ответить Европе достойно России, и… голос императрицы решил победу русской чести. Из двух представленных Горчаковым государю проектов ответа, слабого и сильного, государь выбрал второй. Говорили тогда, что главные мысли этой ноты принадлежали перу Тютчева».
Фанатичный монархист Мещерский явно сместил роли: едва ли можно сомневаться в том, что не царь, а именно Горчаков — не без самого энергичного воздействия Тютчева — проявил в этом деле решимость. Но есть все основания считать, что Мещерский нисколько не преувеличил роль Тютчева во всей этой истории — роль, о которой сам поэт не хотел, конечно, ничего говорить, ибо это могло испортить дело. Он, напротив, стремился представить весь ход событий достижением Горчакова.
Он писал ему из Москвы 11 июля: «Ваши депеши пришли сюда вчера. И я почитаю себя счастливым, что находился в Москве в такой момент… Это был, помимо всяких фраз, момент исторический… После всех этих оскорблений, всех этих официальных дерзостей заграницы, после всех этих сомнений и тревог… вдруг ощутилось как бы чувство облегчения. Вздохнулось свободно. Ничто не прошло здесь незамеченным в этих удачливых депешах. Ни один оттенок, ни одно намерение, ни одно изменение голоса не ускользнуло от оценки публики — или, вернее, страны. Всякий чувствовал себя счастливым и гордым, услышав себя говорящим так, ибо каждый находил присущий ему оттенок в том голосе, который говорил за всех.
Вы знаете, князь, — продолжал Тютчев, — что газета Каткова первая обнародовала ваши депеши в подлиннике и в переводе… На Тверском бульваре, где я обитаю, виднелись группы, с оживлением обсуждавшие ваши депеши. Ко мне лично подошел незнакомец, спросивший меня, читал ли я их, и на мой утвердительный ответ этот человек сказал: дай Бог здоровья князю Горчакову — не выдал…
Одним словом, князь, впечатление, произведенное на моих глазах здесь, в Москве, вашими словами, тем полным достоинства и твердости тоном, которым по вашему благородному почину заговорила Россия, — впечатление это есть достояние истории».
Естественно, Горчаков был необычайно доволен этим тютчевским письмом. На следующий же день после своего возвращения в Петербург, 11 августа, поэт едет в Царское Село, где жил тогда министр. «Я отправился… — писал он Эрнестине Федоровне, — обедать к Горчакову, который меня встретил еще радушнее, чем обыкновенно… — Он с большим увлечением рассказал мне, какое удовольствие доставило ему мое… письмо из Москвы».
Вполне понятно, что Тютчев обрел возможности еще более значительно воздействовать на внешнюю политику России. В то же время он отнюдь не идеализировал положение. Даже в только что цитированном письме к жене, говоря о послании, которое пришло от Горчакова в Москву в ответ на восхищенный рассказ Тютчева об успехе депеш министра, поэт сообщает, что это послание к нему «теперь ходит по городу. Оно… — как исповедание веры не оставляло бы желать ничего лучшего, если бы была уверенность в том, что ему не изменят. Но, к сожалению, на это можно менее всего рассчитывать…»
В самом деле: в дальнейшем Тютчеву приходилось всякий раз столь же напряженно бороться за осуществление своих внешнеполитических идей, вплоть до самой кончины. И он не раз терпел мучительные для него поражения.
По прошествии трех лет после описанных событий, 23 июня 1868 года он напишет жене: «Я был сегодня утром у Горчакова, который опять удивил меня своей невероятной пустотой… И все остальные приблизительно такие же. Бедная наша страна!»
Нельзя не сказать, что Тютчев в этом своем приговоре был все-таки чрезмерно резок и несправедлив. Конечно, Горчаков не всегда мог проникнуться теми глубокими и масштабными политическими идеями, которыми стремился «заполнить» его сознание и направить его дипломатическую волю Тютчев. Но Горчаков далеко превосходил Тютчева как практический политик, как политик-реалист, хотя, без сомнения, тютчевские идеи и даже, если угодно, его политический идеализм играли свою немаловажную и, как представляется, необходимую роль для деятельности Горчакова. Об этом ясно свидетельствует постоянное стремление министра к тесному общению с Тютчевым — стремление, не только не ослабевавшее, но и возраставшее на протяжении семнадцати лет — с 1856 года (когда Горчаков стал министром) и до последних месяцев жизни Тютчева.
Но вернемся к лету 1863 года. Все, что делал тогда Тютчев, живо интересовало Елену Денисьеву. В мае — первой половине июня, когда поэт в Петербурге, тяжело больной, продолжал заниматься политическими делами, она почти неотлучно находилась рядом с ним. Георгиевский вспоминал, что «ей приходилось делить все свое время между заболевшими ее детьми, которые жили на даче вместе с ее тетушкой на Черной речке… и домом Армянской церкви на Невском проспекте, где жил Федор Иванович… Ухаживая за Федором Ивановичем, она продолжала ему читать передовые статьи «Московских ведомостей» по установившемуся у них обычаю».
Впрочем, до нас дошли и самые прямые и точные свидетельства — несколько писем Елены Александровны к сестре. 8 мая она писала о Тютчеве: «Вот уже неделю я ухаживаю за ним. Он был очень серьезно болен. Я сильно встревожилась и проводила дни и ночи около него (потому что семья его отсутствует) и уходила навестить моих детей лишь часа на два в день. Теперь, слава Богу, и он, и они поправляются, и, если все будет продолжать идти хорошо, мы поедем все вместе в Москву, то есть он, Леля и я… Скажи Александру, что я каждый день читаю Тютчеву «Московские ведомости»… и что мы ему очень признательны…» (речь идет о передовицах Александра Георгиевского, «внушаемых», как мы видели, поэтом).
«Федор Иванович опять заболел и сильно, — пишет Елена Александровна 29 мая, — он в постели, и не менее как на неделю… Я принуждена отправить детей на дачу с мамой… Одной ногой на даче, другой в городе — это противно, и нужно иметь большой запас энергии, чтобы не поддаться дурному настроению… Если будешь писать мне, адресуй твои письма Федору Ивановичу, с передачею, — на Невском проспекте, против Гостиного двора, в доме Армянской церкви».
Около 20 июня Тютчев уехал в Москву, а за ним вскоре отправилась туда Елена Александровна, поселившаяся в квартире Георгиевских. Едва ли можно усомниться в том, что поэт тогда — и, конечно, не только тогда, — постоянно говорил со своей возлюбленной о политических делах, переполнявших его душу. И это многим может показаться чем-то неестественным. Но не надо забывать, что для Тютчева самые злободневные политические события были необходимыми звеньями мировой истории, осязаемыми явлениями всемирно-исторического Рока, образ которого постоянно присутствует в тютчевской поэзии.
Образ Рока воплощен и в его творениях, посвященных последней его любви, и не будет натяжкой утверждение, что обе роковые стихии так или иначе соприкасались в мироощущении поэта. Вот почему нет ничего противоестественного в том, что для Тютчева не было отчуждающей грани между политическими и любовными переживаниями; они поистине переплетались в его душе, что вполне очевидно выступает в его письмах, говорящих о смерти Елены Денисьевой (о них еще пойдет речь). И летом 1863 года в Москве политика волновала Тютчева и Елену Александровну в равной мере.
Они вернулись в Петербург в августе. В самом конце 1863 года Эрнестина Федоровна возвратилась из Овстуга, и встречи Елены Александровны с Тютчевым стали очень редкими. Но 10 мая 1864 года Эрнестина Федоровна с дочерью Марией уехала в Германию.
Тютчев все свободное время отдает Елене Александровне и их детям. Так, 5 июня она сообщила своей сестре: «Моя дочь и отец ее… каждый вечер едут вдвоем на Острова то в коляске… то на пароходике… и не возвращаются никогда раньше полуночи». 22 мая Елена Александровна родила сына Николая. Сразу после родов у нее началось быстрое развитие туберкулеза. Она уже не могла путешествовать с Тютчевым и дочерью на Острова.
В июне Тютчев вынужден был на три недели уехать в Москву. А 10 июля его дочь Екатерина писала своей тетке Дарье, что он «печален и подавлен, так как Д. тяжело больна, о чем он сообщил мне полунамеками; он опасается, что она не выживет, и осыпает себя упреками… Со времени его возвращения из Москвы он никого не видел и все свое время посвящает уходу за ней. Бедный отец!»
Но и в эти мучительные недели Тютчев не мог отойти от политических дел. Как раз в июне — начале июля 1864 года Александр II вместе с Горчаковым находился в Германии, где вел переговоры с австрийским императором и прусским королем. Тютчев с большим волнением ожидал результатов этого события. Возвратившийся в Петербург Горчаков рассказывает поэту об удачном ходе переговоров. И в конце июля Тютчев пишет характерное для него «инструктивное» письмо Каткову, который должен поддержать верную внешнеполитическую линию в своей газете.
С глубоким удовлетворением Тютчев говорит в этом письме, что «при всех совещаниях с иностранными министрами и государями не было ни предложено, ни принято нами никаких обязательств, ни изустных, ни письменных, по какому бы то вопросу ни было, так что князь возвратился из-за границы, удержав за собою те самые условия полнейшей самостоятельности и неограниченной свободы действия, с какими он туда отправился…
Князь остается верен своему взгляду, а именно, что настоящая политика России — не за границею, а внутри ее самой: то есть в ее последовательном, безостановочном развитии».
В заключение Тютчев писал: «Вот что поручено мне было вам передать уже несколько дней тому назад, но я все это время жил и живу в такой мучительной, невыносимой душевной тревоге, что вы, конечно, простите мне это невольное промедление».
В это время, как мы знаем, поэт не отходил от тяжело больной Елены Александровны. И все же он нашел в себе силы для этого четкого политического послания…
КОММЕНТАРИИ:
1 Ср. тютчевское «на незамеченной земле».
2 См. об этом: Кожинов В. Книга о русской лирической поэзии XIX века. М., 1978.
3 Уменьшительное от Эрнестины.
4 Ныне Социалистическая улица и улица Правды.
5 Один из таких домыслов — безосновательная версия о существовании еще одной любовной связи поэта: речь идет о Гортензии Лапп, которая гораздо позднее, в 1900 году, будучи клинической сумасшедшей, написала Льву Толстому о своих будто бы близких отношениях с Тютчевым в 1847—1873 годах.
6 Вид награды.
7 В Петербурге тогда жили две дочери поэта от первого брака.
8 Тютчев был там вместе с Еленой Александровной летом 1860 и 1862 годов.
9 Сын (лат.).
10 В 1856—1861 годах — управляющий Третьим отделением, впоследствии, с 1868 года, — министр внутренних дел.
11 В то время варшавский военный губернатор.