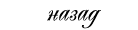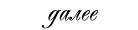И.С. Аксаков. «Федор Иванович Тютчев»
Глава IV
Тютчев принадлежал, бесспорно, к так называемой пушкинской плеяде поэтов. Не потому только, что он был им всем почти сверстником-по летам, но особенно потому, что на его стихах лежит тот же исторический признак, которым отличается и определяется поэзия этой эпохи. Он родился, как мы уже сказали, в 1803 году, следовательно, в один год с поэтом Языковым, за несколько месяцев до Хомякова, за два года до Веневитинова, пять лет спустя после Дельвига, четыре года после Пушкина, три после Баратынского, – одним словом, в той замечательной на Руси полосе времени, которая была так обильна поэтами. Нельзя же, конечно, полагать, что такой период поэтического творчества настал совершенно случайно. Мы со своей стороны видим в нем необходимую историческую ступень в прогрессивном ходе русского просвещения. Известно, что вообще в истории человеческих обществ художественное откровение предваряет медленный рост сознательной мысли; творческая деятельность искусств, требуя еще не раздробленной цельности духа, предшествует аналитической работе ума. Нечто подобное видим мы и в поэзии, и особенно у нас, – разумея здесь поэзию не как психическое начало, нераздельное с человеческой душой, и не как поэзию на степени народной песни, а как особый, высший вид искусства – искусство в слове, выражающееся в мерной речи или стихотворной форме. По особым условиям нашей исторической судьбы за последние полтора века на долю литературной поэзии, при слабом воздействии у нас науки, досталось высокое призвание быть почти единственной воспитательницей русского общества в течение довольно долгой поры. Сдвинутое реформой Петра с своих исторических духовных основ в водоворот чуждой духовной жизни, русское общество, как и понятно, утратило равновесие духа, «заторопилось жить и чувствовать» (по выражению князя Вяземского), не выжидая, пока обучится, и рвалось обогнать тугой, по необходимости, рост своего просвещения. Можно сказать, что пламя поэзии вспыхнуло у нас от самых первых, слабых искр европейского знания, пользуясь готовой чужой стихотворной формой, и что даже первый свет сознательной деятельности в области науки возжегся нам рукой поэта: ибо поэтическое вдохновение окрылило в Ломоносове труды ученого. Затем ход самостоятельного нашего познавания замедляется, но поэтический дух продолжает свою творческую работу в одиноком лице Державина. Однако и после него поэзия была только еще в начале своего поприща; еще не был даже покорен искусству самый его материал – слово. Раздались звуки поэзии Жуковского, Батюшкова и некоторых других, но не они были призваны к тому могучему и плодотворному властительству над умами, которое было суждено русской поэзии.; Ей предстояло, силой высших художественных наслаждений, совершить в русском обществе тот духовный подъем, который был еще не под силу нашей школьной несамостоятельной науке, и ускорить процесс нашего народного самосознания. Ей, наконец, выпала историческая задача проявить, в данной стихотворной форме, все разнообразие, всю силу и красоту русского языка, возделать его до гибкости и прозрачности, способней выражать наитончайшие оттенки мысли и чувства. Разработка слова в стихотворной форме имела, несомненно, свою великую важность. В этом отношении труды даже второстепенных, мелких наших стихотворцев не лишены исторического значения и заслуги. Можно возразить, что то же делали и прозаики… Конечно, так, но особенность поэзии и преимущество ее над прозой в том именно и состоят, что ей раскрывается тайна гармонии языка, что только поэзия властна из самых недр его извлечь тот музыкальный элемент (необходимо присущий каждому языку), который досказывает, дополняет внешний смысл выражений, передает неуловимо речью то, что лишь чувствуется и ощущается, и то же в слове, что запах в цветах.
Таким образом, стихотворческой деятельности в России надлежало достигнуть до крайнего своего напряжения, развиться до апогея. Для этого необходимым был высший поэтический гений и целый сонм поэтических дарований. Странным может показаться, почему складывать речь известным размером и замыкать ее созвучиями становится, в данную эпоху, у некоторых лиц неудержимым влечением с самого детства. Ответ на это дает, по аналогии, история всех искусств. Когда, вообще, в духовном организме народа наступает потребность в проявлении какой-либо специальной силы, тогда, для служения ей, неисповедимыми путями порождаются на свет Божий люди с одним общим призванием, однако ж со всем разнообразием человеческой личности, с сохранением ее свободы и всей видимой, внешней случайности бытия. Поэтическому творчеству в новой у нас мерной речи суждено было стать в России на историческую чреду, – и вот, в урочный час, словно таинственной рукой раскидываются по воздуху семена нужного таланта, и падут они, как придется, то на Молчановке в Москве на голову сына гвардии капитан-поручика Пушкина, который уже так и родится с неестественной, по-видимому, наклонностью к рифмам, хореям и ямбам, то в тамбовском селе Маре на голову какого-нибудь Баратынского, то в брянском захолустье на Тютчева, которого отец и мать никогда и не пробовали услаждать своего слуха звуками русской поэзии.
Очевидно, что в этих, равно и в других, им современных, поэтах стихотворство, бессознательно для них самих, было исполнением не только их личного, но и исторического призвания эпохи. В самых мелких своих проявлениях оно уже имеет у них вид какого-то священнодействия. Вот почему оно и отличается от поэтической деятельности позднейшего периода совершенно особым характером поэзии, – как самостоятельного явления духа, поэзии бескорыстной, самой для себя, свободной, чистой, не обращенной в средство для достижения посторонней цели, – поэзии, не знающей тенденций. Их стихотворная форма дышит такой свежестью, которой уже нет и быть не может в стихотворениях позднейшей поры; на ней еще лежит недавний след победы, одержанной над материалом слова, слышится торжество и радость художественного обладания. Их поэзия и самое их отношение к ней запечатлены искренностью, – такой искренностью, которой лишена поэзия нашего времени: это как бы еще вера в искусство, хотя бы и несознанная. Такой период искренности, по нашему крайнему разумению, повториться едва ли может. Вот уже триста пятьдесят лет сряду сотни художников чуть не ежедневно изучают «манеру» Рафаэля; краски усовершенствованы, технические приемы облегчены; но, несмотря на даровитость и горячее усердие этих художников, все их усилия перенять его манеру тщетны и пребудут тщетны; невозможно им усвоить себе ту искренность, то простодушие творчества, которыми веет от созданий Рафаэля, подобно тому, как невозможно человеку XIX века стать человеком XVI… Это не значит, чтоб мы отвергали всякую будущность для искусства. Бесконечное развитие человеческого духа может явить еще новые, неведомые его стороны; может возникнуть новое, высшее единство духа, обретется новая цельность, аналитический процесс мысли разрешится, быть может, в синтезе; наконец, новые народы принесут с собой новые виды художеств. Всего этого мы, конечно, не отрицаем; но мы разумеем здесь известное историческое проявление искусства, и никто не станет спорить, что, например, греческое искусство, оставаясь, по своему значению, бессмертным мировым двигателем в истории человеческого просвещения, тем не менее отжило свой век, как отжила его и сама Эллада. Но возвратимся к судьбе русской поэзии.
Стихотворная форма, сделавшись впоследствии общим достоянием, явилась и богаче и разнообразнее в техническом отношении. Можно привести тысячи новейших стихов несравненно сильнее и звучнее, например, стихов «Евгения Онегина»; но преимущество прелести, – прелести, неуловимой никаким анализом, независимой от содержания, – вечно пребудет за любыми стихами Пушкина и других некоторых поэтов этого, поэтического периода: от них никогда не отымется свежесть формы и искренность творчества, как их историческая печать. Пушкин имел полное право сказать в следующих прекрасных стихах, столько осмеянных новейшей петербургской критикой позитивистской школы:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Эти «сладкие звуки» были нужны, были серьезным, необходимым, историческим, а потому в высшей степени полезным делом. Вот чего, в своей близорукости, и не понимает эта критика, неспособная стать на историческую точку зрения, прилагающая к нашим великим поэтам прошлой эпохи мерило злобы нынешнего дня и осуждающая их именно, за то, что они были только поэты, художники, а не политические и социальные деятели в духе новейших, быстро меняющихся доктрин и теорий.
На рубеже этого периода искренности нашей поэзии стоит Лермонтов. По непосредственной силе таланта он примыкает ко всему этому блестящему созвездию поэтов, однако же стоит особняком. Его поэзия резко отделяется от них отрицательным характером содержания. Нечто похожее (хотя мы и не думаем их сравнивать) видим мы в Гейне, замкнувшем собой цикл поэтов Германии. От отрицательного направления до тенденциозного, где поэзия обращается в средство и отодвигается на задний план, один только шаг. Едва ли он уже не пройден. На стихотворениях нашего времени уже не лежит, кажется нам, печати этой исторической необходимости и искренности, потому что самая историческая миссия стихотворства, как мы думаем, завершилась. Они могут быть, они и действительно более или менее талантливы, но или звучат как отголоски знакомого прошлого, уже лишенные прежнего обаяния, или же преисполнены внешних, чуждых искусству тенденций.
Впрочем, при ненормальном ходе русского общественного развития, в виду того, что наше просвещение далеко не выражает жизни нашего народного духа, что не все струны народной души прозвучали, что самая стихотворная наша форма была и есть заемная, – может быть, для русской поэзии еще настанет период возрождения в новой, неведомой доселе, своеобразной, более народной форме. Может быть: это не несомненная надежда, а только гадание.
Стихи Тютчева представляют тот же характер внутренней искренности и необходимости, в котором мы видим исторический признак прежней поэтической эпохи. Вот почему он и должен быть причислен к пушкинскому периоду, хотя, по особенной случайности, его стихи проникли в русскую печать уже тогда, когда почти отзвучали песни Пушкина и прочих наших поэтов, когда время властительства поэзии над умами уже миновало. Десятками лет пережил Тютчев и Пушкина, и весь его поэтический период, но оставался верен себе и своему таланту. Не переставая быть «современнейшим из современников» по своему горячему сочувствию к совершающейся кругом его жизни, он, среди диссонансов новейшей поэзии, продолжал дарить нас гармонией старинного, но никогда не стареющего, поэтического строя. Он был среди нас подобно мастеру какой-либо старой живописной школы, еще живущей и творящей в его лице, но не допускающей ни повторения, ни подражания.
Отметив эту общую историческую черту его поэзии, перейдем теперь к особенностям его таланта.
Стихи Тютчева отличаются такой непосредственностью творчества, которая, в равной степени по крайней мере, едва ли встречается у кого-либо из поэтов. Поэзия не была для него сознанной специальностью, своего рода литературным Fach (Специальность, профессия, область занятий), как выражаются немцы, общественным, официальным положением или же такой обязанностью, которую и сам поэт невольно признает за собой, признают и другие за ним; напротив, до 1836 года, как уже было сказано, никто в нем и не признает поэта, то есть до той поры, как служивший в Мюнхене князь Иван Гагарин, собрав целую тетрадь его стихотворений, привез ее к Пушкину, и Пушкин дал им место в своем «Современнике», хотя и без подписи полного имени Тютчева. С 1840 года его стихи снова перестают появляться в печати, и такое воздержание от печатной гласности продолжается четырнадцать лет, в течение которых Тютчев не напечатал ни строчки, хотя и не переставал писать. Но как писать? На вопрос: «Над чем вы теперь работаете?» – он не мог бы отвечать, подобно другим: «Пишу стихи: вчера кончил стихотворение к Аглае, сегодня доделаю Огнедышащую гору; имею намерение обработать в стихах такой-то сюжет». Он был поэт по призванию, которое было могущественнее его самого, но не по профессии. Он священнодействовал, как поэт, но не замечая, не сознавая сам своего священнодействия, не облекаясь в жреческую хламиду, не исполняясь некоторого благоговения к себе и своему жречеству. Его ум и его сердце были, по-видимому, постоянно заняты: ум витал в области отвлеченных, философских или исторических помыслов; сердце искало живых ощущений и треволнений; но прежде всего и во всем он был поэт, хотя собственно стихов он оставил по себе сравнительно и не очень много. Стихи у него не были плодом труда, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов. Когда он их писал, то писал невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой потребности, потому что он не мог их не написать: вернее сказать, он их не писал, а только записывал. Они не сочинялись, а творились. Они сами собой складывались в его голове, и он только ронял их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток. Если же некому было припрятать к месту оброненное, подобрать эти лоскутки, то они нередко и пропадали. Эти-то лоскутки и постарался подобрать князь И. Гагарин, когда вздумал показать стихи Тютчева Пушкину; но очень может быть, что многое пропало и истребилось безвозвратно. К Тютчеву именно применяются слова гетевского певца:
Ich singe wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet.
В самом деле, в чем же состояла награда, Lohn, певца Тютчева, во время его 22-х летнего пребывания за границей, как не в самой спетой песне, никем, кроме его, не слышимой? Условием всякого преуспеяния таланта считается сочувственная среда, живой обмен впечатлений. А Тютчеву четверть века приходилось петь как бы в безвоздушном пространстве. Когда читаешь, например, его стихи, писанные к первой жене и к другим иностранкам, ни слова не знавшим по-русски, да едва ли подозревавшим в нем поэта, невольно спрашиваешь себя: для чего же и для кого он писал? Уже гораздо позднее, в России, когда подросли его дочери и вторая его супруга выучилась по-русски, стали тщательно наблюдать за ним и подбирать лоскутки с его стихами, а иногда и записывать стихи прямо под его диктовку. Так однажды, в осенний дождливый вечер, возвратись домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: «J'ai fait quelques rimes» (я сочинил несколько стихов), и пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотворение:
Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые,
В осень глухую, порою ночной…
Здесь почти нагляден для нас тот истинно-поэтический процесс, которым внешнее ощущение капель частого осеннего дождя, лившего на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется в ощущение слез и облекается в звуки, которые, сколько словами, столько же самой музыкальностью своей, воспроизводят в нас и впечатление дождливой осени, и образ плачущего людского горя… И все это в шести строчках!
Еще более объяснится нам характер его поэтического творчества, когда мы припомним, что этот человек, по его собственному признанию, тверже выражал свою мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писал исключительно на французском языке и, конечно, на девять десятых более говорил в своей жизни по-французски, чем по-русски. А между тем стихи у Тютчева творились только по-русски. Значит, из глубочайшей глубины его духа била ключом у него поэзия, из глубины, недосягаемой даже для его собственной воли; из тех тайников, где живет наша первообразная природная стихия, где обитает самая правда человека… Здесь кстати привести то, что сам Тютчев высказал уже в 1861 году, в стихах на юбилей князя Вяземского, по подводу «музы» этого замечательного в своем роде поэта:
Давайте ж, князь, поднимем в честь богини
Ваш полный пенистый фиал,
Богине в честь, хранившей благородно
Залог всего что свято для души,
Родную речь…
Тютчев мог еще с большим основанием обратить это воззвание к своей собственной музе.
Само собой разумеется, что при подобном процессе творчества Тютчев не способен был ничего творить в обширном размере. Поэтому самые лучшие его стихотворения – короткие; они цельны, словно отлиты из одного куска чистого золота. В его таланте, как уже и замечено было нашими критиками, нет никаких эпических или драматических начал. Его поэзия, как выразились бы немецкие эстетики, вполне субъективна; ее повод – всегда в личном ощущении, впечатлении и мысли; она не способна отрешаться от личности поэта и гостить в области вымысла, в мире внешнем, отвлеченном, чуждом его личной жизни. Он ничего не выдумывал, а только выражался. Он не был тем maestro, тем художником-хозяином в поэзии, каким, например, является Пушкин, этот полновластный распорядитель звуков и форм, разнообразно направлявший силы своего гения по указанию своей свободной поэтической воли, умевший творить не одним мгновенным наитием вдохновения, но и медленным вдохновенным трудом. Да и у всех поэтов, рядом с непосредственным творчеством, слышится делание, обработка. У Тютчева деланного нет ничего: все творится. Оттого нередко в его стихах видна какая-то внешняя небрежность: попадаются слова устарелые, вышедшие из употребления, встречаются неправильные рифмы, которые, при малейшей наружной отделке, легко могли бы быть заменены другими.
Этим определяется и отчасти ограничивается его значение как поэта. Но это же придает его поэзии какую-то особенную прелесть задушевности и личной искренности. Хомяков – сам лирический стихотворец – говорил и, по нашему мнению, справедливо, что не знает других стихов, кроме тютчевских, которые бы служили лучшим образом чистейшей поэзии, которые бы в такой мере, насквозь, durch und durch, были проникнуты поэзией.
(Вот, между прочим, что писал Хомяков из Москвы в Петербург, Александру Николаевичу Попову, в 1850 году: «Видите ли Ф. И. Тютчева? Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него. Не стыдно ли молчать, когда бог дал такой голос? Если он вздумает оправдываться и ссылаться, пожалуй, на меня, скажите ему, что это не дело. Без притворного смирения, я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, т. е. прозатор везде проглядывает и, следовательно, должен наконец задушить стихотворца. Он же насквозь поэт (durch und durch), у него не может иссякнуть источник поэтический. В нем, как в Пушкине, как в Языкове, натура античная в отношении к художеству…»)
Мы разумеем здесь, конечно, лучшие произведения Тютчева, те, которыми характеризуется его стихотворчество, а не те, которые, уже в позднейшее время, он иногда заставлял писать себя на известные случаи вследствие обращенных к нему требований и ожиданий. Замечательно, что в стихотворениях его самой ранней молодости нет почти вовсе той свободы творчества, которой мы так любуемся в его поэзии. Это особенно видно в тех пьесах, которые, хотя и были напечатаны в двадцатых годах, однако же не включены в полное собрание его стихотворений. В них встречаются условные приемы, обороты и выражения тогдашней псевдоклассической школы, например:
И мне ль, друзья, сей гимн веселый
Мне ль петь на лире онемелой? и т. д. —
одним словом – что-то тяжелое, принужденное, совершенно чуждое позднейшим свойствам его поэзии. Вероятно, Тютчев еще находился тогда под некоторым влиянием или подражал приемам своих недавних учителей, Раича и Мерзлякова. Но через несколько лет по переезде за границу он как будто стряхнул с себя путы русской эстетики того времени и сбросил навязанное ему звание «певца». Он перестает сочинять и печатать, отказывается от притязаний на авторство, но тут-то и является, внезапно, поэтом: его творчество обрело свободу, он стал самим собою. Стихи Тютчева не выдаются особенно бойкостью, наружной красивостью, силой и звучностью; но взамен этих качеств они отличаются совершенно своеобразной фактурой; их мелодичность не похожа на музыкальный строй, если не одинаковый, то довольно общий у прочих наших поэтов. Что особенно пленяет в поэзии Тютчева, это ее необыкновенная грация, не только внешняя, но еще более внутренняя. Все жесткое, резкое и яркое чуждо его стихам; на всем художественная мера; все извне и изнутри, так сказать, обвеяно изяществом. Самое вещество слова как бы теряет свою вещественность, которой именно так любят играть и щеголять некоторые поэты, которая составляет своего рода специальную красоту в стихах, например, Языкова. Вещество слова у Тютчева как-то одухотворяется, становится прозрачным. Мыслью и чувством трепещет вся его поэзия. Его музыкальность не в одном внешнем гармоническом сочетании звуков и рифм, но еще более в гармоническом соответствии формы и содержания.
Почти все стихотворения Тютчева равно грациозны и музыкальны, но приведем теперь для примера хоть некоторые из них, где это свойство его поэзии, при относительной незначительности содержания, выступает, так сказать, на первый план.
Вот, например, одно из самых молодых стихотворений, уже упомянутое нами, написанное, может быть, лет 45 тому назад и внушенное ему 16-летней красавицей за границей:
Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край,
День вечерел, мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.
И на холму, там, где белея
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,
Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой…
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и с замком, и с тобой.
Ты беззаботно вдаль глядела.
Край неба дымно гас в лучах.
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.
И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день,
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.
Как грациозна эта картина летнего вечера и молодой девушки у развалин старого замка, озаренной догорающими лучами солнца, – какая мягкость тонов и нежность колорита! С трудом верится, что это стихотворение, – написанное, если не ошибаемся, в ранней молодости, – принадлежит поэту, который еще незадолго перед тем, под влиянием образцов так называемой русской классической поэзии, считал себя обязанным петь в важном и напыщенном тоне и добровольно сковывал свое творчество, пока не махнул рукой на «сочинительство», на печать и на всякую авторскую славу. А вот другое, из позднейшей поры, написанное уже в шестидесятых годах; вот в каком легком и изящном образе выражено им нравственное изнеможение:
О, этот Юг, о, эта Ницца,
О, как их блеск меня тревожит!
Мысль, как подстреленная птица,
Подняться хочет и не может;
Нет ни полета, ни размаху,
Висят подломанные крылья,
И вся дрожит, прижавшись к праху,
В сознаньи грустного бессилья…
Впрочем, трудно выбрать стихотворение, которое служило бы примером только одной грациозности. Это свойство его поэзии неразлучно с каждым проявлением его поэтического творчества, как увидит далее и сам читатель.
Но где Тютчев является совершенным мастером, мало имеющим себе подобных, это в изображении картин природы. Нет, конечно, сюжета более избитого стихотворцами всего мира. К счастью, сам сюжет, то есть сама природа, от этого нисколько не опошливается, и ее действие на дух человеческий не менее неотразимо. Сколько бы тысяч писателей ни пыталось передать нам ее язык, – всегда и вечно он будет звучать свежо и ново, как только душа поэта станет в прямое общение с душой природы. Оттого и картины Тютчева исполнены такой же бессмертной красоты, как бессмертна красота самой природы. Вообще, верность изображения не только того, что зовется «природой», но и всякого предмета, явления и даже ощущения заключается вовсе не в обилии подробностей, вовсе не в аккуратной передаче всякой, даже самой мелкой черты, вовсе не в той фотографической точности, которой так хвалятся художники-реалисты позднейшего времени. Многие из наших новейших писателей любят кокетничать наблюдательностью и, думая изобразить чью-либо физиономию, перечисляют углы и изгибы рта, губ, носа, чуть не каждую бородавку на лице; если же рисуют быт, то с неумолимой отчетливостью передают каждую ничтожную частность, иногда совершенно случайную, зыбкую, вовсе не типичную… Они только утомляют читателя и нисколько не уловляют внутренней правды. Истинный художник, напротив того, изо всех подробностей выберет одну, но самую характерную; его взор тотчас угадывает черты, которыми определяется весь внешний и внутренний смысл предмета и определяется так полно, что остальные черты и подробности сами уже собой досказываются в воображении читателя. Воспринимая впечатление от наружности ли человеческой, от иных ли внешних явлений, мы прежде всего воспринимаем это впечатление непосредственно, еще без анализа, еще не успевая, да иногда иле задаваясь трудом изучить и разобрать все соотношения линий и всю игру мускулов в физиономии или же все формы и движения частей, составляющих, например, картину природы. Следовательно, художественная задача – не в том, чтоб сделать рабский снимок с натуры (что даже и невозможно), а в воспроизведении того же именно впечатления, какое произвела бы на нас сама живая натура. Это уменье передавать несколькими чертами всю целость впечатления, всю реальность образа требует художественного таланта высшей пробы и принадлежит Тютчеву вполне, особенно в изображениях природы. Кроме Пушкина, мы даже не можем и указать кого-либо из прочих наших поэтов, который бы владел этой способностью в равной мере с Тютчевым. Описания природы у Жуковского, Баратынского, Хомякова, Языкова иногда прекрасны, звучны и даже верны, – но это именно описание, а не воспроизведение. У некоторых, впрочем, позднейших поэтов, у Фета и у Полонского, местами попадаются истинно художественные черты в картинах природы, но только местами. Вообще же, в своих описаниях, большая часть стихотворцев ходит возле да около; редко-редко удается им схватить самый существенный признак явлений. Приведем в доказательство следующее стихотворение Тютчева:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера.
Где бодрый серп ходил и падал колос,
Теперь уж пусто все: простор везде, —
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь,
И льется чистая и тихая лазурь
На отдыхающее поле.
Здесь нельзя уже ничего прибавить; всякая новая черта была бы излишня. Достаточно одного этого «тонкого волоса паутины», чтоб одним этим признаком воскресить в памяти читателя былое ощущение подобных осенних, дней во всей его полноте.
Или вот это стихотворение, – другая сторона осени:
Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И как предчувствие осенних бурь,
Порывистый, холодный ветр порою.
Ущерб, изнеможенье, и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем.
Возвышенной стыдливостью страданья…
Не говоря уже о прекрасном грациозном образе «стыдливого страданья», – образе, в который претворилось у Тютчева ощущение осеннего вечера, самый этот вечер воспроизведен такими точными, хоть и немногими чертами, что будто сам ощущаешь и переживаешь всю его жуткую прелесть.
Этот мотив повторен Тютчевым и в другой пьесе, но образ осени умильнее, нежнее и сочувственнее:
Обвеян вещею дремотой,
Полураздетый лес грустит;
Из летних листьев разве сотый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на ветке шелестит.
Гляжу с участьем умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным
Молниевидный брызнет луч…
Как увядающее мило,
Какая прелесть в нем для нас,
Когда что так цвело и жило,
Теперь так немощно и хило
В последний улыбнется раз.
Нам особенно нравятся первые пять стихов, нравятся именно своей простотою («из летних листьев разве сотый») и правдою.
Такая же истина и в этой картине осени:
…………………………
Так иногда осеннею порой,
Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее долы, —
Вдруг ветр подует, теплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою,
И душу вам обдаст как бы весною…
Именно теплый и сырой ветер. Это именно то, что нужно. Кажется, какие незатейливые слова, но в этом-то и достоинство, в этом-то и прелесть: они просты, как сама правда.
Здесь кстати заметить, что точность и меткость качественных выражений или эпитетов – важное, необходимое условие художественной красоты в поэзии. Пушкин, как истинный художник, выше всего ценил эту точность и не успокаивался, пока не найдет выражения самого соответственного, и потому самого простого. В этом отношении нет ему равных. В письмах Пушкина к князю Вяземскому (в «Русском архиве» 1874 года) есть его разбор стихотворения князя «Водопад». Этот разбор может служить образцом художнической требовательности Пушкина. На вопрос: что думает, он о «Думах» и поэмах, вообще обо всем множестве стихов Рылеева, Пушкин, еще в начале двадцатых годов, отвечает только: «Там есть у него палач с засученными руками, за которого я бы дорого дал». Ему понравилась меткость этой характеристичной подробности и живописная простота выражения. Уменье уловить самую существенную черту явления или предмета, – о чем мы говорили выше, – тесно связывается, конечно, с уменьем выбрать, из массы качественных слов в языке, самое определительное, бьющее прямо в цель, сразу овладевающее предметом, захватывающее его живьем. Чем эпитеты точнее, тем они проще. Казалось бы, это и не так трудно, – а между тем для этого потребна и особенная художественная зоркость, и особенная чуткость в отношении к языку. Кроме Пушкина, – как мы уже сказали, – только поэзия Тютчева и отчасти Лермонтова обладает этим даром точных эпитетов в высокой степени; у других наших поэтов он замечается лишь местами, довольно редко. Их эпитеты более описательного, чем определительного свойства; или слишком фигурны, вычурны и нарядны, или же являются каким-то внешним щегольством языка, радующим самого автора, а не простой, необходимой, спокойной принадлежностью самого предмета. (О тех же стихотворцах, которые ради точности прибегают чуть не к технической терминологии (например, Бенедиктов в описании Кавказских гор), мы не считаем здесь нужным и упоминать.) К тому же у Тютчева эта меткость качественных определений простирается не на одни предметы внешнего мира, как и увидим ниже.
Вот еще несколько примеров изображения природы у Тютчева; мы поставили курсивом те именно выражения, которые нам кажутся художественно-точными и простыми:
ПОЛДЕНЬ
Лениво дышит полдень мглистый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.
И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В чертоге нимф спокойно дремлет.
Здесь это одно «лениво тают» стоит всякого длинного подробного описания.
Или вот это выражение:
Не остывшая от зною
Ночь июльская блистала…
Один из критиков поэзии Тютчева, поэт Некрасов, в статье, напечатанной еще в 1850 году, любуясь простотой и краткостью следующего стихотворения, сравнивает его с однородным стихотворением Лермонтова. Вот стихи Тютчева:
Песок сыпучий по колени;
Мы едем; поздно; меркнет день,
И сосен по дороге тени
Уже в одну слилися тень.
Черней и чаще лес глубокий…
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста.
У Лермонтова:
И миллионом темных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста.
«Кто не согласится, – говорит г. Некрасов, и мы с ним совершенно согласны, – что эти похожие строки Лермонтова значительно теряют в своей оригинальности и выразительности».
Вот картина летней бури:
Как весел грохот летних бурь,
Когда взметая прах летучий,
Гроза нахлынувшая тучей
Смутит небесную лазурь,
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно.
………………………
И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу.
Ради простоты и точности очертаний приведем еще два отрывка:
ДОРОГА ИЗ КЕНИГСБЕРГА В ПЕТЕРБУРГ
Родной ландшафт под дымчатым навесом
Огромной тучи снеговой;
Синеет даль с ее угрюмым лесом,
Окутанным осенней мглой.
Все голо так, и пусто, необъятно
В однообразии немом;
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом…
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья,
Жизнь отошла, и, покорясь судьбе,
В каком-то забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе…
Здесь не только внешняя верность образа, но и вся полнота внутреннего ощущения.
РАДУГА
Как неожиданно и ярко
По влажной неба синеве
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве.
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла;
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла…
Изнемогла! Выражение не только глубоко верное, но и смелое. Едва ли не впервые употреблено оно в нашей литературе, в таком именно смысле. А между тем нельзя лучше выразить этот внешний процесс постепенного таяния, ослабления, исчезновения радуги. Еще г. Тургенев заметил, что «язык Тютчева часто поражает смелостью и красотой своих оборотов». Нам кажется, что, независимо от таланта, эта смелость может быть объяснена отчасти и обстоятельствами его личной жизни. Русская речь служила Тютчеву, как мы уже упомянули, только для стихов, никогда для прозы, редко для разговоров, так что самый материал искусства – русский язык – сохранился для него в более целостном виде, не искаженном через частое употребление. Многое, что могло бы другим показаться смелым, ему самому казалось только простым и естественным. Конечно, от такого отношения к русской речи случались подчас синтаксические неправильности, вставлялись выражения, уже успевшие выйти из употребления; но зато иногда, силой именно поэтической чуткости, добывал он из затаенной в нем сокровищницы родного языка совершенно новый, неожиданный, но вполне удачный и верный оборот или же открывал в слове новый, еще не подмеченный оттенок смысла.
Трудно расстаться с картинами природы в поэзии Тютчева, не выписав еще несколько примеров. Вот его «Весенние воды», – но сначала для сравнения приведем «Весну» Баратынского, в которой встречаются стихи очень схожие. Баратынский:
Весна, весна! Как воздух чист,
Как ясен небосклон;
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака.
Шумят ручьи! блестят ручьи!
Взревев, река несет
Ha торжествующем хребте
Поднятый ею лед!
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне.
Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей,
И с птичкой птичка! С ним журчит,
Летает в небе с ней.
Далее следуют еще две строфы совершенно отвлеченного содержания – о душе, и стихи довольно тяжелые. Тютчев:
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят,
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят, —
Они гласят во все концы:
«Весна идет! Весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»
Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней…
Эти стихи так и-обдают чувством весны, молодым, добрым, веселым. Они и короче, и живее стихов Баратынского.
(Г. Некрасов в своей статье («Современник», 1850 года) приводит для сравнения с этим стихотворением Тютчева «Весну» г. Фета:
«Уж верба вся пушистая» и проч., —
и приводит именно с тем, чтоб показать степень различия в мастерстве изображения. У г. Фета указывает он много прекрасных стихов, но рядом с ними, как и у Баратынского, много фигурного, отвлеченного или ненужного рассуждения. Вообще стихотворение очень длинно.
Вот отрывок из другого стихотворения, которое можно бы назвать: «Пред грозою».
В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы;
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы.
Чу! за белой душной тучей
Прокатился глухо гром,
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом.
Жизни некий преизбыток
В знойном воздухе разлит,
Как божественный напиток
В жилах млеет и дрожит!..
Заключим этот отдел поэзии Тютчева одним из самых молодых его стихотворений: «Весенняя гроза».
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит:
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный,
Все вторит весело громам.
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.
Так и видится молодая, смеющаяся вверху Геба, а кругом влажный блеск, веселье природы и вся эта майская грозовая потеха. Это стихотворение было напечатано в «Галатее» еще в 1829 году, но такова странная судьба поэзии Тютчева, что оно не обратило тогда на себя ни малейшего внимания.
В ответных своих стихах к известному нашему поэту, г. Фету, Тютчев говорит:
Иным достался от природы
Инстинкт пророчески слепой:
Они им чуют, слышат воды
И в темной глубине земной…
Великой матерью любимый,
Стократ завидней твой удел:
Не раз под оболочкой зримой
Ты самое ее узрел.
Этот последний стих справедливее отнести к самому Тютчеву; про него именно можно сказать, что ему было дано не раз видеть природу не во внешней только оболочке, но её самоё, обнаженной, без покровов.
Если бы – предположим – кто-нибудь, умеющий живо и тонко чувствовать художественные красоты в поэзии, стал читать в первый раз творения, – конечно, не Пушкина и даже не Лермонтова, а прочих наших поэтов, даже не зная их имен, – он, без сомнения, усладился бы вполне «пленительной сладостью» Жуковского; он хоть на миг, может быть, воспламенился, бы духом к высоким нравственным подвигам благодаря мужественному лиризму стихов Хомякова; ему бы доставили, конечно, утеху бодрые, звучные песни Языкова, где столько праздника, столько молодости, шири и удали; его душу проняла бы, вероятно, и страждущая тоска поэтических дум Баратынского; он нашел бы себе отраду и во многих других наших поэтах… Но если бы он, перелистывая эту сотню-другую тысяч стихов, вдруг случайно напал на любое из вышеприведенных стихотворений, вроде «Осени первоначальной» с ее «тонким волосом паутины», или «Весенних вод», или хоть «Радуги, изнемогшей в небе», – он невольно бы остановился; он по одному этому выражению, по одной этой мелкой, по-видимому, черте опознал бы тотчас настоящего художника и сказал бы вместе с Хомяковым: «Чистейшая поэзия – вот где». Такого рода художественной красоты, простоты и правды нельзя достигнуть ни умом, ни восторженностью духа, ни опытом, ни искусством: здесь уже явное, так сказать, голое поэтическое откровение, непосредственное творчество таланта.
Обратимся теперь к другой особенности стихотворений Тютчева: мы разумеем самое содержание поэзии, внутренний поэтической строй. Но здесь нам приходится сделать небольшое отступление.
Воспитание почти всех наших поэтов, особенно поэтов пушкинской плеяды, к несчастью, характеризуется совершенно верно собственными стихами Пушкина:
Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь.
Все они (кроме Хомякова, конечно, который совершенно выделяется из этого сонма поэтов), при поверхностном образовании, возросли под сильным умственным и нравственным воздействием французской литературы и философии XVIII века. Но ошибочно было бы думать, что эта философия в самом деле породила у нас философов и вообще серьезных мыслителей; господствовала не сама философия, как свободно пытливая работа ума, а просто quasi-философское «вольнодумство», в самом обиходном и пошлом смысле этого слова; не философия как наука, а ее так называемый дух, то есть самое легкомысленное отрицание религиозных верований и идеалов, самое ветреное обращение с важнейшими вопросами жизни, упразднение не только строгости, но даже всякой серьезности в сфере нравственных отношений и понятий. Конечно, уже тогда начинало группироваться небольшое число очень молодых людей (например, Киреевские и другие) с иными, запросами духа, с потребностью основательного знания; но их значение сказалось гораздо позднее. Мы уже отчасти характеризовали выше эпоху двадцатых годов, но почти не коснулись стороны общественного воспитания. Мы и теперь не намерены рассматривать ее подробно, – тем более что школа, через которую первоначально проходили наши поэты пушкинского периода, относится не к двадцатым годам, а к началу и первым двум десяткам лет нашего столетия. Но так как многие черты у обеих эпох одинаковы, то читателю нетрудно представить себе, какова была эта школа, если он постарается припомнить все рассказанное нами выше о времени отъезда Тютчева за границу. Считаем нужным только добавить, что хотя французское влияние вторглось к нам еще при Екатерине, во второй половине ее царствования, однако же на литературе, равно и на умственном движении ее времени лежит печать все-таки большей серьезности и важности, чем в позднейшую пору; люди екатерининских времен были грубее, но крепче, строже, ближе к русской народности; самый их разврат был крупен, но довольно односторонен и внешен, – менее легкомыслен, менее растлевающего свойства. С царствованием Александра I начинается более полное отчуждение от народа и более полное господство иностранной моды – и уже не в нарядах только, но в мыслях и воззрениях. Все становится изящнее, деликатнее, галантерейнее и как-то пошлее, если позволено будет так выразиться. Печать оригинальности на произведениях умственного творчества исчезает. События 12 года встрясли несколько общественный дух, но и после 12 года, и гораздо позднее состояние мысли философско-отвлеченной, направление литературное и эстетические воззрения представляются в виде истинно жалком. Еще в 1819 году можно было в торжественных речах на торжественных литературных собраниях, из уст ученых авторитетов, слышать такие рассуждения: «Почтенные мужи! Пусть на цветущем поле нашей словесности резвятся, в разновидных группах, Амуры, Зефиры и Фавны… Птичка, свивающая гнездо на ближнем дереве, научила человека строить скромные сени из ветвей, она же научила его радоваться и воспевать свою радость. Отсюда происхождение – Музыки и Поэзии». (См. «Труды Общества Любителей Российской Словесности», 1819 г. Речь на торжественном публичном заседании Мерзлякова.) Правда, в то время уже началась реакция, и «господин Боало, честный Лафонтен, гений Корнеля и Сида, сии вечные образцы искусства» (там же, статья одного из членов), как выражались еще тогда с кафедры ученые наши авторитеты, одним словом, вся эта псевдоклассическая теория поэзии не тяготела более над умами наших юных поэтов, которые все были пылкими приверженцами так называемой «романтической школы». Но взамен господина Боало с компанией образцами для молодых певцов служили все же французские писатели: отчасти только Шенье, но предпочтительно Парни, пресловутый Парни, и другие представители эротической поэзии. Впоследствии Парни уступил было место Байрону, но Байрон был понят только с внешней своей стороны; да и мудрено было этому своеобразному историческому продукту английской нравственной, общественной почвы акклиматизироваться на русской. Нельзя не скорбеть душой при мысли, какова была та духовно-нравственная атмосфера, в которой приходилось распускаться и творить нашим поэтическим дарованиям. Стоит только заглянуть в новейшие биографические труды и исследования о детстве и молодости Пушкина… Можно было бы, кажется, задохнуться в этой гнилой атмосфере, если б ее несколько не освежали своим присутствием: Карамзин – этот «целомудренно-свободный дух», по выражению Тютчева, и Жуковский с «голубиной чистотой» своей поэзии. Какие-то нанесенные ветром обрывки чужих, преимущественно французских доктрин, вкусов и нравов, при недостатке сколько-нибудь строгой науки, при отсутствии воспитательного начала гражданской общественной жизни, при разрыве с своими собственными народными и бытовыми преданиями: ни убеждений твердых, ни крепких нравственных основ – вот чем была, по крайней мере в значительной части, русская общественная среда. Велика заслуга наших поэтов уже в том, что они не только не погибли в этой растлевающей обстановке, но еще умели и сами вознестись над нею, – даровать и обществу силу подъема, и орудие воспитания в художественной красоте своих произведений. Конечно, при этом немало было растрачено даром богатства души, свежести чувства, времени… Нелегко было из «питомцев Эпикура», «певцов пиров и сладострастья» – как они сами себя величали – выбраться целым на путь высшего поэтического творчества: для этого надобно было родиться Пушкиным. Приходится поистине изумляться упругости и мощи этого гения, который – не благодаря, а вопреки всем внешним условиям – успел в короткий срок своего поприща дойти до той художественной трезвости и полноты, какую явил он в позднейших своих творениях. Но то ли еще способен был дать нам этот великий художник, если б его воспитание было иное, если б сама окружающая жизнь могла сообщить его духу иное содержание? Как бы то ни было, но что вообще неприятно поражает в поэтах этой плеяды, рядом с яркой красотой форм, звуков и образов, особенно в первой половине их поэтической деятельности (у иных во второй) – это не только напускной цинизм и хвастовство разгульной праздностью, не только нравственное легкомыслие, суетность, фривольность (frivolit?), но некоторая, притом очевидная, скудность образования и бедность мысли, одним словом, пустота содержания.
Судьба Тютчева, как мы уже узнаем, была иная. Благодаря 22-летнему пребыванию в Германии он не испытал влияния ни французского философского материализма, ни русской тлетворной общественной среды. Впрочем, в нем не видать было и немца, а видна была лишь печать глубокой всесторонней образованности и замечательной возделанности ума и вкуса. Та же печать лежит и на его стихотворениях, – чем и выделяются они из произведений других русских поэтов.
Прежде всего, что бросается в глаза в поэзии Тютчева и резко, отличает ее от поэзии ее современников в России – это совершенное отсутствие грубого эротического содержания. Она не знает их «разымчивого хмеля», не воспевает ни «цыганок» или «наложниц», ни ночных оргий, ни чувственных восторгов, ни даже нагих женских прелестей; в сравнении с другими поэтами одного с ним цикла, его муза может назваться не только скромной, но как бы стыдливой. И это не потому, чтобы психический элемент – «любовь» – не давал никакого содержания его поэзии. Напротив. Мы уже знаем, какое важное значение в его судьбе, параллельно с жизнью ума и высшими призывами души, должно быть отведено внутренней жизни сердца, – и эта жизнь не могла не отразиться в его стихах. Но она отразилась в них только той стороной, которая одна и имела для него цену, – стороной чувства, всегда искреннего, со всеми своими последствиями: заблуждением, борьбой, скорбью, раскаянием, душевной мукой. Ни тени цинического ликования, нескромного торжества, ветреной радости: что-то глубоко-задушевное, тоскливо-немощное звучит в этом отделе его поэзии. Мы уже довольно говорили об этом выше, очерчивая его личный нравственный образ, и привели несколько его стихов. Чтобы еще точнее определить мотив любви в его поэзии, приведем еще некоторые наиболее характеристические пьесы, хоть в отрывках. Вот, например:
Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови —
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви.
Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой,
Огня палящего не скроешь
Под легкой девственной фатой.
Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом…
Невольно кудри молодые
Он обожжет своим венцом.
Вотще поносит или хвалит
Поэта суетный народ:
Он не стрелою сердце жалит,
А как пчела его сосет.
Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но мимоходом жизнь задушит
Иль унесет за облака.
В другом стихотворении он говорит:
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя…
Год не прошел, спроси и сведай,
Что уцелело от нея?..
И что ж от долгого мученья
Как пепл сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!
О, как убийственно, мы любим, и пр.
Или вот следующее стихотворение:
Любовь, любовь – гласит преданье —
Союз души с душой родной,
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И поединок роковой.
И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец…
Укажем еще на пьесы: «С какою негою, с какой тоской влюбленной», «Последняя любовь», «Я очи знал, о эти очи», «О не тревожь меня укорой справедливой» и т. д. Если мы вспомним затем следующие стихи, которыми, будто заключительным аккордом, повершается весь этот отдел стихотворений «не властного в себе самом» поэта, именно:
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые;
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть, —
то мы будем иметь полное понятие об этом мотиве его поэзии.
Но самое важное отличие и преимущество Тютчева – это всегда неразлучный с его поэзией элемент мысли. Мыслью, как тончайшим эфиром, обвеяно и проникнуто почти каждое его стихотворение. Большей частью мысль и образ у него нераздельны. Мыслительный процесс этого сильного ума, свободно проникавшего во все глубины знания и философских соображений, в высшей степени замечателен. Он, так сказать, мыслил образами. Это доказывается не только его поэзией, но даже его статьями, а также и его изречениями или так называемыми mots или bons mots*, которыми он прославился в свете едва ли не более, чем стихами. Все эти mots были не что иное, как ироническая, тонкая, нередко глубокая мысль, отлившаяся в соответственном художественном образе. Мысль в его стихотворениях вовсе не то, что у Хомякова или у Баратынского. Поэтические произведения Хомякова – это как бы отрывки целой, глубоко обдуманной, исторически-философской или нравственно-богословской системы. Искренность убеждения, возвышенность духовного строя, жар одушевления придают многим его стихотворениям силу увлекательную. Но если мысль его способна восходить до лиризма, все же она, втиснутая в рифмы и размер, в рамки стихотворения, не вмещается в них, перевешивает художественную форму в ущерб себе и ей; художественная форма ее теснит и сама насилуется. Читая его стихи, вы забываете о художнике и имеете в виду высоко нравственного мыслителя и проповедника. Впрочем, это сознавал и сам Хомяков, как мы видели из вышеприведенного его письма к А. Н. Попову о Тютчеве. Что же касается до Баратынского, этого замечательного оригинального таланта, то его стихи бесспорно умны, но, – так нам кажется, по крайней мере, – это ум – остуживающий поэзию. В нем немало грации, но холодной. Его стихи согреваются только искренностью тоски и разочарования. Пушкин недаром назвал его Гамлетом; у Баратынского чувство всегда мыслит и рассуждает. Там же, где мысль является отдельно как мысль, она, именно по недостатку цельности чувства, по недостатку жара в творческом горниле поэта, редко сплавляется в цельный поэтический образ. Он трудно ладит с внешней художественной формой; мысль иногда торчит сквозь нее голая, и рядом с прекрасными стихами попадаются стихи нестерпимо тяжелые и прозаические (например, его «Смерть»). Исключение составляют три-четыре истинно превосходных стихотворения.
У Тютчева, наоборот, поэзия была той психической средой, сквозь которую преломлялись сами собой лучи его мысли и проникали на свет Божий уже в виде поэтического представления. У него не то что мыслящая поэзия, – а поэтическая мысль; не чувство рассуждающее, мыслящее, – а мысль чувствующая и живая. От этого внешняя художественная форма не является у него надетой на мысль, как перчатка на руку, а срослась с нею, как покров кожи с телом, сотворена вместе и одновременно, одним процессом: это сама плоть мысли. Мы уже отчасти объяснили этот процесс, приводя выше стихотворение «Слезы». Вот еще пример:
Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет по жаркой мостовой.
Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.
Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись;
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.
Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Его главы не освежит.
Пошли, Господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой,
Как бедный нищий мимо саду,
Бредет по знойной мостовой.
Здесь мысль стихотворения вся в аналогии этого образа нищего, смотрящего в жаркий летний день сквозь решетку роскошного прохладного сада, – с жизненным жребием людей-тружеников. Но эта аналогия почти не высказана, обозначена слегка, намеком, в двух словах в последней строфе, почти не замечаемых: жизненной тропой, а между тем она чувствуется с первого стиха. Образ нищего, вероятно, в самом деле встреченного Тютчевым, мгновенно осенил поэта сочувствием и – мыслью об этом сходстве. Мысль, вместе с чувством, проняла насквозь самый образ нищего, так что поэту достаточно было только воспроизвести в словах один этот внешний образ: он явился уже весь озаренный тем внутренним значением, которое ему дала душа поэта, и творит на читателя то же действие, которое испытал сам автор. Но если мысль здесь только чувствуется, а в некоторых стихотворениях как бы несколько заслоняется выдающеюся художественностью формы и самостоятельной красотой внешнего образа, то можно указать на другие стихотворения, где мысль не теряет своего самостоятельного значения и высказывается и в художественной форме и как мысль. Начнем опять с картин природы:
Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный,
Как золотой ковер она свила,
Ковер, накинутый над бездной.
И как виденье, внешний мир ушел,
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь и сумрачен и гол,
Лицом к лицу пред этой бездной темной.
И чудится давно минувшим сном
Теперь ему все светлое живое,
И в чуждом, неразгаданном ночном
Он узнает наследье роковое.
Нельзя лучше передать и осмыслить ощущение, производимое ночной тьмой. Та же мысль выразилась и в другом стихотворении:
На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.
День – сей блистательный покров,
День – земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!
Но меркнет день; настала ночь,
Пришла – и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Собрав, отбрасывает прочь.
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна.
Но нам особенно нравятся следующие стихи:
О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо-жалобный, то шумной?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке,
И ноешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться…
О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!
Кажется, прочитав однажды это стихотворение, трудно будет не припомнить его всякой раз, как услышишь завыванье ночного ветра.
Сколько глубокой мысли в его «Весне»!.. Выпишем несколько строф:
Весна – она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле.
Бессмертьем взор ея сияет
И ни морщины на челе!
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к нам
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам!
……………………
Не о былом вздыхают розы,
И соловей в тени поет, —
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет,
И страх кончины неизбежный
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита,
Игра и жертва жизни частной,
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан.
Приди – струей его эфирной
Омой страдальческую грудь
И жизни божески-всемирной
Хотя на миг причастен будь!
Приведем еще стихотворение: «Сон на море» – замечательное красотой формы и смелостью образов, которые могли быть созданы фантазией только мыслителя-художника.
И море и буря качали наш челн;
Я сонный был предан всей прихоти волн,
И две беспредельности были во мне,
И мной своенравно играли оне.
Кругом, как кимвалы, звучали скалы,
И ветры свистели, и пели валы.
Я в хаосе звуков летал оглушен,
Над хаосом звуков носился мой сон:
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир:
Земля зеленела, светился эфир,
Сады, лабиринты, чертоги, столпы,
И чудился шорох несметной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,
По высям творенья я гордо шагал,
И мир подо мною недвижно сиял.
Сквозь слезы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.
Таинственный мир снов часто приковывает к себе мысль поэта. Вот строфы, где самая стихия сна воплощается в образ почти так же неопределенный, как она сама, но сильно охватывающий душу:
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.
То глас ее: он нудит нас и просит.
Уж в пристани волшебный ожил челн…
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,
И мы плывем – пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
Но мы должны остановиться, – выписывать пришлось бы слишком много. Перейдем теперь к стихотворениям, где раскрывается для нас нравственно-философское созерцание поэта. Припомним сказанное нами выше, что его мыслящий дух никогда не отрешался от сознания своей человеческой ограниченности, но всегда отвергал самообожание человеческого я. Вот как это сознание выразилось в следующих двух стихотворениях:
ФОНТАН
Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится,
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.
Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной,
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.
О, нашей мысли водомет,
О, водомет неистощимый,
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты!
А вот и другое:
Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывет.
На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью, в поздней темноте,
Но все, неудержимо тая,
Они плывут к одной мете.
Все вместе, малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все, безразличны, как стихия,
Сольются с бездной роковой.
О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?
Нельзя не подивиться поэтическому процессу, умеющему воплощать в такие реальные, художественные образы мысль самого отвлеченного свойства.
В приведенных нами сейчас стихотворениях Тютчева, как и во всех, где выражается его внутренняя дума, не слышно торжественных, укрепляющих душу звуков. Напротив, в них слышится ноющая тоска, какая-то скорбная ирония. Но это тоска, хотя и подбитая скорбной иронией, вовсе не походила ни на хандру Евгения Онегина, отставного, пресыщенного удовольствиями «повесы», как называет его сам Пушкин; ни на байроновское отрицание идеалов; ни на разочарование человека, обманутого жизнью, как у Баратынского; ни на доходившее до трагизма безочарование Лермонтова (по прекрасному выражению Гоголя): поэзия Лермонтова – это тоска души, болеющей от своей неспособности к очарованию, от своей собственной пустоты вследствие безверия и отсутствия идеалов. Напротив, тоска у Тютчева происходила именно от присутствия этих идеалов в его душе – при разладе с ними всей окружающей его действительности и при собственной личной немощи возвыситься до гармонического примирения воли с мыслью и до освещения разума верой: его ирония вызывается сознанием собственного своего и вообще человеческого бессилия, – несостоятельности горделивых попыток человеческого разума… Но от этих стихотворений, все же отрицательного характера, перейдем к тем, где задушевные нравственные убеждения поэта высказываются в положительной форме, где открываются нам его положительные духовные идеалы. Так, в его стихах «На смерть Жуковского» мы видим, как высоко ценит поэт цельный гармонический строй верующей души, побеждающий внутреннее раздвоение:
НА СМЕРТЬ ЖУКОВСКОГО
Я видел вечер твой; он был прекрасен,
Последний раз прощаяся с тобой,
Я любовался им: и тих, и ясен,
И весь насквозь проникнут теплотой.
О, как они и грели, и сияли
Твои, поэт, прощальные лучи!..
А между тем заметно выступали
Уж звезды первые в его ночи.
В нем не было ни лжи, ни раздвоенья;
Он все в себе мирил и совмещал.
С каким радушием благоволенья
Он были мне Омировы читал, —
Цветущие и радужные были
Младенческих, первоначальных лет!
А звезды между тем на них сводили
Таинственный и сумрачный свой свет.
Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; – хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел, —
Но веял в нем дух чисто-голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел;
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел.
И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру.
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество:
«Лишь сердцем чистые – те узрят бога?»
Следующее стихотворение есть уже истинный вопль души, разумеющей болезнь и тоску века, – оно в то же время и исповедь самого поэта:
НАШ ВЕК
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвется из ночной тени —
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры… но о ней не просит.
Не скажет век с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему безверью!..»
Вот те основные нравственные тоны, которые слышатся у Тютчева сквозь все его философские, исторические, политические и поэтические думы. Они не благоприобретенное размышлением, не нажитое горьким опытом достояние; таясь в глубине его духа, они не только пережили искус долгого заграничного пребывания, но сильнее всего оградили независимость и самостоятельность его мышления в чужеземной среде, поддержали пламя беспредельной любви к России, сохранили духовную связь с родной землей и, как мы уже видели, воспитали в нем способность сочувственного разумения тех высоких нравственных сторон русской народности, которые в самой России постигались и ценились очень немногими. Стихотворения: «На смерть Жуковского» и «Наш век» объясняют нам уже приведенные прежде стихотворения: «Эти бедные селенья», «Тебе они готовят плен», равно и некоторые другие, – и взаимно объясняются ими. Мы, впрочем, не станем здесь ни выписывать, ни разбирать тех его поэтических произведений, которые посвящены России или выражают его политические убеждения и мечтания. Они отчасти уже нашли себе место в предшествовавшем отделе нашего очерка, где мы именно старались показать читателям рост и силу русской народной стихии в Тютчеве-европейце, – а некоторые будут помещены нами ниже, в пояснение его политических статей. Хотя этих стихотворений довольно много и иные высокого поэтического достоинства, однако же не ими определяется значение Тютчева поэта с точки зрения эстетической критики. Скажем здесь несколько слов только об общем характере этих патриотических и политических стихотворений: в них (за исключением двух-трех) менее всего слышится его внутреннее, духовное раздвоение, его ирония, обращенная на самого себя, его нравственная тоска, а также и тот особенный личный процесс поэтического творчества, который налагает такую оригинальную печать на его поэзию и дает ей такую своеобразную прелесть. Его политическое миросозерцание, его убеждения относительно исторической будущности русского народа были, как мы уже знаем, тверды, цельны – до односторонности, до страстности, а потому только в этом отделе стихотворений и доходит он до торжественных, почти «героических» звуков, столько вообще чуждых его поэзии. Для примера укажем на следующие даа стихотворения: «Море и утес» и «Рассвет», которые оба блещут поэтическими красотами, особенно последнее, но красотами несколько иного рода, выделяющими обе пьесы из общего строя его поэтических творений.
Пьеса «Море и утес» написана в 1848 году, после Февральской революции и, очевидно, изображает Россию, ее твердыню, среди разъяренных волн западноевропейских народов, которые, вместе с всеобщим мятежом, были внезапно объяты и неистовою злобою на Россию. Ничто так не раздражало Тютчева, как угрозы и хулы на Русь со стороны иностранцев. Не знаем, обратили ли эти стихи внимание на себя в свое время и были ли поняты в смысле, нами объясненном (в 1848 году Тютчев еще продолжал ничего не печатать); но трудно сомневаться в их настоящем значения, особенно ввиду статьи «Россия и революция»:
И бунтует и клокочет,
Плещет, свищет и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот!
Ад ли, адская ли сила,
Под клокочущим котлом,
Огнь геенский разложила,
И Пучину взворотила,
И поставила вверх дном?
Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской
С ревом, свистом, визгом, воем
Бьет в утес береговой…
Но спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!
И озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
Снова волны лезут с воем
На гранит громадный твой.
Но о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул сокрушенный,
И клубится мутной пеной
Обессиленный порыв.
Стой же ты, утес могучий,
Обожди лишь час-другой;
Надоест волне гремучей
Воевать с твоей пятой!
Утомясь потехой злою,
Присмиреет вновь она.
И без вою, и без бою,
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна.
Относительно стремительности, силы, красивости стиха и богатства созвучий у Тютчева нет другого подобного стихотворения. Оно превосходно, но не в тютчевском роде. Оно свидетельствует только, что Тютчев мог бы, если бы хотел, щеголять и такими красивыми произведениями; но если бы его книжка стихов ограничивалась только такими пьесами, бесспорно сильными и звучными, то Тютчев как поэт лишился бы оригинальности и не занял бы того особого места, которые создала ему в нашей литературе менее громкая и торжественная его поэзия. Впрочем, даже самый выбор того или другого направления в поэзии был для него невозможен, потому что он не гонялся за успехом, а писал стихи ради удовлетворения внутренней личной потребности лочти непроизвольно; тем не менее самый талант его был способен, как оказывается, к разнообразному стихотворному строю.
Следующее стихотворение «Рассвет» написано 18 лет спустя и, несмотря на свой аллегорический характер, менее выделяется из поэзии Тютчева, чем «Море и утес», – отчего в «Рассвете» и более истинной художественной красоты. Здесь под образом восходящего солнца подразумевается пробуждение Востока, – чего Тютчев именно чаял в 1866 году, по случаю восстания кандиотов; однако образ сам по себе так самостоятельно хорош, что, очевидно, если не перевесил аллегорию в душе поэта, то и не подчинился ей, а вылился свободно и независимо. Тем не менее и это стихотворение отличается от всех прочих произведений Тютчева своим положительно-торжественным внутренним строем:
Молчит сомнительно Восток,
Повсюду чуткое молчанье…
Что это? Сон иль ожиданье,
И близок день или далек?
Чуть-чуть белеет темя гор,
Еще в тумане лес и долы,
Спят города и дремлют селы,
Но к небу подымите взор.
Смотрите: полоса видна,
И словно скрытной страстью рдея,
Она все ярче, все живее —
Вся разгорается она.
Еще минута – и во всей
Неизмеримости эфирной
Раздастся благовест всемирный
Победных солнечных лучей!
Сведем же все указанные нами черты поэзии Тютчева, характеризующие его как поэта. Он отличается прежде всего особенным процессом поэтического творчества, до такой степени непосредственным и быстрым, что поэтические его творения являются на свет Божий, еще не успев остыть, еще сохраняя на себе теплый след рождения, еще трепеща внутренней жизнью души поэта. Оттого эта особенная, как бы не вещественная, как бы не отвердевшая красота наружной формы, насквозь проникнута мыслью и чувством; оттого эта искренность, эта неумышленная, но тем более привлекательная грация. Художественная зоркость и воздержанность в изображениях – особенно природы; пушкинская трезвость, точность и меткость эпитетов и вообще качественных определений; соразмерность внешнего гармонического строя с содержанием стихотворения; постоянная правда чувства и потому постоянная же некая серьезность основного звучащего тона; во всем и повсюду дыхание мысли, глубокой, тонкой, оригинальной, по существу своему нередко отвлеченной, но всегда согретой сердцем и поэтически воплощенной в цельный, соответственный образ; такая же тонкость оттенков и переливов в области нравственных ощущений, – вообще тонкость резьбы, узорчатость чеканки – при совершенной простоте, естественности, свободе и, так сказать, непроизвольности поэтической работы. На всем печать изящного вкуса, многосторонней образованности, ума, возделанного знанием и размышлением, – легкая, игривая ирония, как улыбка, рядом с важностью дум, – и при всем том что-то скромное, нежное, смиренно-человечное, без малейшего отзвука тщеславия, гордости, жестокости, суетности, щегольства; ничего напоказ, ничего для виду, ничего предвзятого, заданного, деланного, сочиненного. Конечно, содержание его поэзии дается только его личным внутренним миром, не выходит из заветного круга близких, дорогих его сердцу вопросов, интересов, образов и впечатлений; он почти не имеет власти над своим вдохновением, почти не способен искусственно устремлять силы своего таланта по произволу, на предметы, чуждые его душе, – неспособен к художническому продолжительному труду, а потому не создал и не мог создать ни поэмы, ни драмы; он не проповедник, он не учит, он лишь выражает себя самого; его лиризм не укрепит и не вознесет духа… Но его стихи, хотя бы даже устарела их внешняя форма, не перестанут чаровать нестареющей прелестью поэзии и мысли; они плодотворно питают ум, захватывают все струны сердца, будят и просветляют Русское чувство. Они – неиссякаемый источник духовно-изящных наслаждений. В истории русской словесности Тютчев останется всегда одним из самых блестящих и своеобразных проявлений русского поэтического гения; его значение не померкнет.
Заключим нашу характеристику следующими прекрасными строками из статьи о Тютчеве И. С. Тургенева, напечатанной двадцать лет тому назад, но нисколько не утратившей достоинства современности:
«Талант Тютчева, по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее ждет отзыва и одобрения; для того, чтобы вполне оценить его, надо самому читателю быть одаренным некоторой тонкостью понимания, некоторой гибкостью мысли, не остававшейся слишком долго праздной. Фиалка своим запахом не разит на двадцать шагов кругом; надо приблизиться к ней, чтоб почувствовать ее благовоние. Мы не предсказываем популярности Тютчеву, но мы предсказываем ему глубокое и теплое сочувствие всех тех, кому дорога русская поэзия; а некоторые его стихотворения пройдут из конца в конец всю Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом. Тютчев может (мог бы!) сказать себе, что он, по выражению одного поэта, создал речи, которым не суждено умереть, – а для истинного художника выше подобного сознания награды нет».