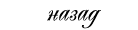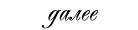И.С. Аксаков. «Федор Иванович Тютчев»
Глава II
В 1822 году переезд из России за границу значил не то, что теперь. Это просто был временный разрыв с отечеством. Железных дорог и электрических телеграфов тогда еще и в помине не было; почтовые сообщения совершались медленно; русские путешественники были редки. Отвергнутый от России в самой ранней, нежной молодости, когда ему было с небольшим 18 лет, закинутый в дальний Мюнхен, предоставленный сам себе, Тютчев один, без руководителя, переживает на чужбине весь процесс внутреннего развития, от юности до зрелого мужества, и возвращается в Россию на водворение, когда ему пошел уже пятый десяток лет. Двадцать два года лучшей поры жизни проведены Тютчевым за границей…
Представим же его себе одного, брошенного, чуть не мальчиком в водоворот высшего иностранного общества, окруженного всеми соблазнами большого света, искушаемого собственными дарованиями, которые тотчас же, с первого его появления в этой блестящей европейской среде, доставили ему столько сочувствия и успеха, – наконец любимого, балуемого женщинами, с сердцем, падким на увлечения, страстные, безоглядочные… Как, казалось бы, этой 18-летней юности не поддаться обольщениям тщеславия, даже гордости? Как не растратить в этом вихре суеты, в обаянии внешней жизни сокровища жизни внутренней, высшие стремления духа? Не следовало ли ожидать, что и он, подобно многим нашим поэтам, поклонится кумиру, называемому светом, приобщится его злой пустоте и в погоне за успехами принесет немало нравственных жертв в ущерб и правде, и таланту?
Но здесь-то и поражает нас своеобразность его духовной природы. Именно к тщеславию он и был всего менее склонен. Можно сказать, что в тщеславии у Тютчева был органический недостаток. Он любит свет – это правда; но не личный успех, не утехи самолюбия влекли его к свету. Он любил его блеск и красивость; ему нравилась эта театральная, почти международная арена, воздвигнутая на общественных высотах, где в роскошной сценической обстановке выступает изящная внешность европейского общежития со всей прелестью утонченной культуры; где, – во имя единства цивилизации, условных форм и приличий, – сходятся граждане всего образованного мира, как равноправная труппа актеров. Но, любя свет, всю жизнь вращаясь в свете, Тютчев ни в молодости не был, ни потом не стал «светским человеком». Соблюдая по возможности все внешние светские приличия, он не рабствовал перед ними душой, не покорялся условной светской «морали», хранил полную свободу мысли и чувства. Блеск и обаяние света возбуждали его нервы, и словно ключом било наружу его вдохновенное, грациозное остроумие. Но самое проявление этой способности не было у него делом тщеславного расчета: он сам тут же забывал сказанное, никогда не повторялся и охотно предоставлял другим авторские права на свои, нередко гениальные, изречения. Вообще, как в устном слове, точно так и в поэзии, его творчество только в самую минуту творения, не долее, доставляло ему авторскую отраду. Оно быстро, мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись в речи или в стихах, угасало и исчезало из памяти.
Он никогда не становился ни в какую позу, не рисовался, был всегда сам собой, каков он есть, прост, независим, произволен. Да ему было и не до себя, то есть не до самолюбивых соображений о своем личном значении и важности. Он слишком развлекался и увлекался предметами для него несравненно более занимательными: с одной стороны, блистанием света, с другой, личной, искренней жизнью сердца и затем высшими интересами знания и ума. Эти последние притягивали его к себе еще могущественнее, чем свет. Он уже и в России учился лучше, чем многие его сверстники-поэты, а германская среда была еще способнее расположить к учению, чем тогдашняя наша русская, и особенно петербургская. Переехав за границу, Тютчев очутился у самого родника европейской науки: там она была в подлиннике, а не в жалкой копии или карикатуре, у себя, в своем дому, а не в гостях, на чуждой квартире.
Окунувшись разом в атмосферу стройного и строгого немецкого мышления, Тютчев быстро отрешается от всех недостатков, которыми страдало тогда образование у нас в России, и приобретает обширные и глубокие сведения. По свидетельству одного иностранца (барона Пфеффеля), напечатавшего в конце прошлого года небольшую статью о нем в одной парижской газете, Тютчев ревностно изучал немецкую философию, часто водился с знаменитостями немецкой науки, между прочим с Шеллингом, с которым часто спорил, доказывая ему несостоятельность его философского истолкования догматов христианской веры. Тот же Пфеффель, вспоминая эти годы молодости Тютчева в Мюнхене, выражается о нем следующим образом в одном частном письме, которое нам довелось прочесть: «nous subissions le charme de ce merveilleux esprit (мы находились под очарованием этого диковинного ума)». Не менее замечателен и отзыв И. В. Киреевского, который уже в 1830 году пишет из Мюнхена к своей матери в Москву про 27-летнего Тютчева: «Он уже одним своим присутствием мог бы быть полезен в России: таких европейских людей у нас перечесть по пальцам». Тютчев обладал способностью читать с поразительной быстротой, удерживая прочитанное в памяти до малейших подробностей, а потому и начитанность его была изумительна, – тем более изумительна, что времени для чтения, по-видимому, оставалось у него немного. (Эту привычку к чтению Тютчев перенес с собой и в Россию и сохранил ее до самой своей предсмертной болезни, читая ежедневно, рано по утрам, в постели, все вновь выходящие, сколько-нибудь замечательные книги русской и иностранных литератур, большей частью исторического и политического содержания.) Вообще при его необыкновенной талантливости занятия наукой не мешали ему вести, по наружности, самую рассеянную жизнь и не оставляли на нем никакой пыли труда, той почтенной пыли, которую многие ученые любят выставлять напоказ и которая так способна снискивать благоговение толпы.
Могут заметить, что самая основательность приобретенной Тютчевым образованности достаточно предохраняла его от искушений того мелкого тщеславия, которое в состоянии довольствоваться поверхностными успехами в свете или дешевой популярностью в полуневежественных кругах. Но для Тютчева, при богатстве его знания и даров, существовала возможность искушений более высшего порядка. Ему естественно было пожелать для себя не только известности, но и славы. Десятой доли его сведений и талантов было бы довольно иному для того, чтоб суметь приобрести почести и значение, занять выгодную общественную позицию, стать оракулом и прогреметь, особенно в нашем отечестве. Примером может служить один из современников Тютчева, Чаадаев, страдавший именно избытком того, в чем у Тютчева был недостаток, – человек бесспорно умный и просвещенный, хотя значительно уступавший Тютчеву и в уме и в познаниях, человек, которому отведено даже место в истории нашего общественного развития, который постоянно позировал с немалым успехом в московском обществе и с подобающей важностью принимал поклонение себе как кумиру. Но именно важности никогда и не напускал на себя Тютчев. Если бы он хоть сколько-нибудь о том постарался, молва о нем прошумела бы в России еще в первой половине его жизни и слава умного человека и поэта не осенила бы его так поздно и притом в пределах только избранных кругов русского общества. От времени до времени доходили, конечно, о нем чрез русских путешественников известия и в Россию, подобные отзыву Киреевского; но тем не менее имя его в отечестве долго оставалось неведомым, и даже Жуковский, если не ошибаемся, уже в 1841 году, встретясь с Тютчевым где-то за границей, писал о нем как о каком-то неожиданном, приятном открытии. Мы уже знаем, как хлопотал он о своей стихотворческой известности!.. Все блестящее соединение даров было у Тютчева как бы оправлено скромностью, но скромностью особого рода, не выставлявшейся на вид и в которой не было ни малейшей умышленности или аффектации. Эта замечательная психическая черта требует пристального рассмотрения.
Если, несмотря на все соблазны света и увлечения сердца, Тютчев даже и в молодости постоянно расширял кругозор своей мысли и свои познания, которым так дивились потом и русские, и иностранцы, – все же было бы ошибкой предполагать здесь, с его стороны, какое-либо действие воли, нравственный подвиг, победу над искушениями, и т. п. Нисколько. Ленивый, избалованный с детства, не привыкший к обязательному труду, но притом совершенно равнодушный к внешним выгодам жизни, он только свободно подчинялся влечениям своей, в высшей степени интеллектуальной природы. Он только утолял свой врожденный, всегда томивший его, умственный голод. С наслаждением вкушал он от готовой трапезы знания и разумения, но никогда не удовлетворялся ею вполне; никогда не испытывал того самодовольства сытости, которое с такой приятностью ощущают умы менее требовательные… Вообще всякое самодовольство было ненавистно его существу.
В том-то и дело, что этот человек, которого многие, даже из его друзей, признавали, а может быть признают еще и теперь, за «хорошего поэта» и сказателя острых слов, а большинство – за светского говоруна, да еще самой пустой, праздной жизни, – этот человек, рядом с метким изящным остроумием, обладал умом необычайно строгим, прозорливым, не допускавшим никакого самообольщения. Вообще это был духовный организм, трудно дающийся пониманию: тонкий, сложный, многострунный. Его внутреннее содержание было самого серьезного качества. Самая способность Тютчева отвлекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем, что в основе его духа жило искреннее смирение: однако ж не как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, как прирожденное личное и отчасти народное свойство (он был весь добродушие и незлобие); с другой стороны, как постоянное философское сознание ограниченности человеческого разума и как постоянное же сознание своей личной нравственной немощи. Преклоняясь умом пред высшими истинами Веры, он возводил смирение на степень философско-нравственного исторического принципа. Поклонение человеческому я было вообще, по его мнению, тем лживым началом, которое легло в основание исторического развития современных народных обществ на Западе. Мы увидим, как резко изобличает он в своих политических статьях это гордое самообожание разума, связывая с ним объяснение европейской революционной эры, и как, наоборот, возвеличивает он значение духовно-нравственных стихий русской народности. Понятно, что если такова была точка отправления его философского миросозерцания, то тем менее могло быть им допущено поклонение своему личному я. При всем том его скромность относительно своей личности не была в нем чем-то усвоенным, сознательно приобретенным. Его я само собой забывалось и утопало в богатстве внутреннего мира мысли, умалялось до исчезновения в виду откровения Божия в истории, которое всегда могущественно приковывало к себе его умственные взоры. Вообще, его ум, непрерывно питаемый и обогащаемый знанием, постоянно мыслил. Каждое его слово сочилось мыслью. Но так как, с тем вместе, он был поэт, то его процесс мысли не был тем отвлеченным, холодным, логическим процессом, каким он является, например, у многих мыслителей Германии: нет, он не разобщался в нем с художественно-поэтической стихией его души и весь насквозь проникался ею. При этом его уму была в сильной степени присуща ирония, – но не едкая ирония скептицизма и не злая насмешка отрицания, а как свойство, нередко встречаемое в умах особенно крепких, всесторонних и зорких, от которых не ускользают, рядом с важными и несомненными, комические и двусмысленные черты явлений. В иронии Тютчева не было ничего грубого, желчного и оскорбительного, она была всегда остра, игрива, изящна и особенно тонко задевала замашки и обольщения человеческого самолюбия. Конечно, при таком свойстве ума не могли же иначе, как в ироническом свете, представляться ему и самолюбивые поползновения его собственной личности, если они только когда-нибудь возникали.
Но кроме того, его я уничтожалось и подавлялось в нем, как мы уже сказали, сознанием недосягаемой высоты христианского идеала и своей неспособности к напряжению и усилию. Потому, что рядом с его, так сказать, бескорыстною, безличною жизнью мысли была другая область, где обретал он самого себя всецело, где он жил только для себя, всей полнотой своей личности. То была жизнь сердца, жизнь чувства, со всеми ее заблуждениями, треволнениями, муками, поэзией, драмой страсти; жизнь, которой, впрочем, он отдавался всякий раз не иначе как вследствие самого искреннего, внезапно овладевшего им увлечения, – отдавался без умысла и без борьбы. Но она была у него про себя, не была предметом похвальбы и ликования, всегда обращалась для него в источник тоски и скорби и оставляла болезненный след в его душе.
Душа моя – элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни замыслам годины буйной сей,
Ни радостям, ни горю непричастных.
Душа моя – элизиум теней,
Что общего меж жизнью и тобой?..
Так высказывается он сам в своих стихах. Замыслы, радости и горе годины не переставали однако ж занимать и тревожить его ум; страстные увлечения сердца не ослабляли деятельности его философской мысли, но они тем не менее вносили тягостное раздвоение в его бытие. Ничто не могло омрачить в нем сознания правды. Немерцающий светоч ума и совести постоянно разоблачал пред ним всю тьму противоречий между признаваемым, сочувственным его душе, нравственным идеалом и жизнью; между возвышенными запросами и ответом.
О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..
Этот крик сердечной боли, как бы невольно вырвавшийся из груди поэта, разрешается через несколько строк воплем скорби и верующего смирения в следующих стихах:
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть…
Самая способность смирения, этой силы очищающей, уже служит залогом высших свойств его природы. Биографу Тютчева нет затем никакой надобности входить в подробности этой стороны его существования более, чем сколько нужно для разумения его нравственного облика и сокрытых мотивов его поэзии… Но не в одной этой области томился он внутренним раздвоением и душевными муками.
Ум сильный и твердый – при слабодушии, при бессилии воли, доходившем до немощи; ум зоркий и трезвый – при чувствительности нервов самой тонкой, почти женской, – при раздражительности, воспламенимости, одним словом, при творческом процессе души поэта, со всеми ее мгновенно вспыхивающими призраками и самообманом; ум деятельный, не знающий ни отдыха, ни истомы – при совершенной неспособности к действию, при усвоенных с детства привычках лени, при необоримом отвращении к внешнему труду, к какому бы то ни было принуждению; ум постоянно голодный, пытливый, серьезный, сосредоточенно проникавший во все вопросы истории, философии, знания; душа, ненасытно жаждущая наслаждений, волнений, рассеяний, страстно отдававшаяся впечатлениям текущего дня, так что к нему можно было бы применить его собственные стихи про творения природы весной:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита…
Дух мыслящий, неуклонно сознающий ограниченность человеческого ума, но в котором сознание и чувство этой ограниченности не довольно восполнялись живительным началом веры; вера, признаваемая умом, призываемая сердцем, но не владевшая ими всецело, не управлявшая волей, недостаточно освещавшая жизнь, а потому не вносившая в нее ни гармонии, ни единства… В этой двойственности, в этом противоречии и заключался трагизм его существования. Он не находил ни успокоения своей мысли, ни мира-своей душе. Он избегал оставаться наедине с самим собой, не выдерживал одиночества и как ни раздражался «бессмертной пошлостью людской», по его собственному выражению, однако не в силах был обойтись без людей, без общества, даже на короткое время.
Только поэтическое творчество было в нем цельно: мы это увидим при подробной характеристике его как поэта. Но оно, вследствие именно этой сложности его духовной природы, не могло быть в нем продолжительно и, вслед за мгновением творческого наслаждения, он уже стоял выше своих произведений, он уже не мог довольствоваться этими неполными и потому не совсем верными, по его сознанию, отголосками его дум и ощущений; не мог признавать их за делание достаточно важное и ценное, достойно отвечающее требованиям его ума и таланта. А что требования эти бывали велики, тревожили иногда его собственную душу с настойчивостью и властью, что пламень таланта порой жег его самого и стремился вырваться на волю; что эти высокие призывы, остававшиеся неудовлетворенными, наводили на него припадки меланхолии и уныния, особенно в тридцатых годах его жизни, во время пребывания за границей, где впервые, вдали от отечества, зашевелились и заговорили в нем все силы его дарований, где не мог он порой не тяготиться своим одиночеством, – обо всем этом мы узнаем отчасти из сохранившихся писем его первой жены. Именно ради рассеяния и отпросился он в плавание, с дипломатическими депешами, к Ионическим островам. Об этом свидетельствуют также написанные около того же времени следующие два стихотворения, представлявшие, кроме своего высокого достоинства, психологический и биографический интерес. Первое из них то самое «Silentium», которое напечатанное в 1835 году в «Молве», не обратило на себя никакого внимания и в котором так хорошо выражена вся эта немощь поэта – передать точными словами, логической формулой речи внутреннюю жизнь души в ее полноте и правде:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои!
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи:
Любуйся ими и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь;
Взрывая – возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи.
Лишь жить в самом себе умей!
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум:
Их заглушит наружный шум,
Дневные ослепят лучи, —
Внимай их пенью – и молчи.
В другом превосходном стихотворении эта тоска доходит уже до своего высшего выражения:
Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огнь сокрытый и глухой
Слова и строки пожирает, —
Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом.
О Небо! если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы – и погас!
Но и потом, гораздо позднее, нередко вслед за, игривым, шутливым словом можно было подслушать как бы невольные стоны, исторгавшиеся из его груди. Его ум сверкал иронией, – его душа ныла… А между тем не было, по-видимому, человека приятнее и любезнее. Его присутствием оживлялась всякая беседа; неистощимо сыпались блестки его чарующего остроумия; жадно подхватывались окружающими его меткие изречения, из которых каждое было в своем роде артистическим изделием самой тонкой, узорчатой, художественной чеканки; он пленял и утешал все внемлющее ему общество. Но вот, внезапно, неожиданно скрывшись, он – на обратном пути домой; или вот он, с накинутым на спину пледом, бродит долгие часы по улицам Петербурга, не замечая и удивляя прохожих… Тот ли он самый?..
Стройного, худощавого сложения, небольшого роста, с редкими, рано поседевшими волосами, небрежно осенявшими высокий, обнаженный, необыкновенной красоты лоб, всегда оттененный глубокой думой; с рассеянием во взоре, с легким намеком иронии на устах, – хилый, немощный и по наружному виду, он казался влачившим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей собственной, неугомонной мысли. Понятно теперь, что в этом блеске тонули для него, как звезды в сиянии дня, его собственные поэтические творения. Понятны его пренебрежение к ним и так называемая авторская скромность.
Таков был этот своеобразный, высокодаровитый, смелый и смиренный мыслитель и поэт; таков был этот замечательный человек, неотразимо привлекательный изяществом всех проявлений своего духа, – самым сочетанием силы и слабости.