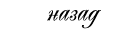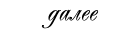Д.А. Жуков «Алексей Константинович Толстой»
Глава третья
ПРОБА СИЛ
В Россию Толстые вернулись только осенью. В письме, посланном из Петербурга, Алексей Константинович извинился перед директором архива Малиновским о просрочке отпуска и поблагодарил за представление к чину коллежского регистратора. Но тогда же молодого человека перевели в другой департамент министерства иностранных дел, а позже назначили «к миссии нашей во Франкфурте-на-Майне, сверх штата».
Назначение было формальным. Чтобы не пропадала выслуга лет, или, как говорили, «старшинство». На самом деле он с головой окунулся в светскую жизнь Петербурга. Вспоминают, что он танцевал на балах, волочился напропалую, тратил две-три тысячи рублей в месяц.
На двадцатом году жизни даже глубокие раны рубцуются быстро.
Но было бы несправедливым упрекать Толстого в совершенном легкомыслии. Обаяние пустой и беззаботной жизни не заглушало до конца тоски по делу, по стихам, которые хоть и писались, но все безделки, потом безжалостно уничтоженные.
По воспоминаниям, Толстой в то время поражал воображение своих сверстников.
«Граф Толстой, - писал А.В. Мещерский, - был одарен исключительной памятью. Мы часто для шутки испытывали друг у друга память, причем Алексей Толстой нас поражал тем, что по беглом прочтении целой большой страницы любой прозы, закрыв книгу, мог дословно все им прочитанное передать без одной ошибки; никто из нас, разумеется, не мог этого сделать».
В «Записках Василия Антоновича Инсарского» говорится: «Граф Алексей Толстой был в то время красивый молодой человек, с прекрасными белокурыми волосами и румянцем во всю щеку. Он еще более, чем князь Барятинский, походил на красную девицу; до такой степени нежность и деликатность проникала всю его фигуру. Можно представить мое изумление, когда князь однажды сказал мне: «Вы знаете, это величайший силач!» При этом известии я не мог не улыбнуться самым недоверчивым, чтобы не сказать презрительным образом; сам принадлежа к породе сильных людей, видавший на своем веку много действительных силачей, я тотчас подумал, что граф Толстой, этот румяный и нежный юноша, силач аристократический и дивит свой кружок какими-нибудь гимнастическими штуками. Заметив мое недоверие, князь стал рассказывать многие действительные опыты силы Толстого: как он свертывал в трубку серебряные ложки, вгонял пальцем в стену гвозди, разгибал подковы. Я не знал, что и думать. Впоследствии отзывы многих других лиц положительно подтвердили, что эта нежная оболочка скрывает действительного Геркулеса».
В короткой автобиографии, составленной много позже для итальянского литературного критика Анджело де Губернатиса, Алексей Толстой писал, что к страсти к искусству и Италии «вскоре присоединилась другая, составлявшая с ней странный контраст, на первый взгляд могущий показаться противоречием: это была страсть к охоте. С двадцатого года моей жизни она стала во мне так сильна и я предавался ей с таким жаром, что отдавал ей все время, которым мог располагать. В ту пору я состоял при дворе императора Николая и вел весьма светскую жизнь, имевшую для меня известное обаяние; тем не менее я часто убегал от нее и целые недели проводил в лесу, часто с товарищем, но обычно один. Среди наших записных охотников я вскоре приобрел репутацию ловкого охотника на медведей и лосей и с головой погрузился в стихию, так же мало согласовавшуюся с моими артистическими наклонностями, как и с моим официальным положением; это увлечение не осталось без влияния на колорит моих стихотворений. Мне кажется, что ему я обязан тем, что почти все они написаны в мажорном тоне, тогда как мои соотечественники творили большею частью в минорном».
Весной 1837 года, судя по письмам, Алексей Толстой с матерью живут в Красном Роге. Охота заполняет почти все его время. Он бьет лис, косуль, зайцев. По ночам подстерегает волков.
Анна Алексеевна в это время захвачена хозяйственной деятельностью. Она переносит на другое место флигель (из всех краснорогских зданий он один только и сохранился), она самовластно вводит строгости по отношению к крестьянам, которые при сердобольном и снисходительном Перовском привыкли к безнаказанности за потравы и порубки в господских владениях. Ожесточенные новыми порядками, двадцать пять крестьян из Рославца подстерегли в Пашицком лесу главного лесника, напали на него и избили до полусмерти.
По преданиям, которые рассказывают и по сей день в селе Красный Рог, Толстого занимала не только охота. В громадном парке и сегодня еще можно найти Поляну, тесно обсаженную липами так, что они образуют круг. В середине этого круга молодой Толстой будто бы устраивал веселые празднества - девушки из села пели песни, показывали свое искусство бродячие скоморохи и плясуны. В «шалаше» - своеобразном зале на чистом воздухе, со стенами из подстриженных лип - на помосте стоял стол, за которым пировали молодой хозяин и его друзья. Рассказывают, что силач Алексей любил мериться силами с деревенскими богатырями.
В 1837 году Толстой съездил во Франкфурт-на-Майне, к месту службы. Там он впервые увиделся с Гоголем, с которым случилось забавное происшествие, о чем поведал со слов Алексея Толстого Пантелеймон Кулиш. Тот писал, что, остановись в одной из франкфуртских гостиниц, Гоголь «вздумал ехать куда-то далее и, чтобы не встретить остановки по случаю отправки веющей, велел накануне отъезда гаускнехту (то, что у нас в трактирах половой), уложить все вещи в чемодан, когда еще он будет спать, и отправить их туда-то. Утром, на другой день после этого распоряжения, посетил Гоголя граф А.К. Т(олстой), и Гоголь принял своего гостя в самом странном наряде - в простыне и одеяле. Гаускнехт исполнил приказание поэта с таким усердием, что не оставил ему даже во что одеться. Но Гоголь, кажется, был доволен своим положением и целый день принимал гостей в своей пестрой мантии, до тех пор пока знакомые собрали для него полный костюм и дали ему возможность уехать из Франкфурта».
Из-за рубежа Толстой вернулся в Петербург.
Он еще находится под «обаянием» большого света, который, по словам Соллогуба, умел и любил веселиться; на родовитых россиян еще не пахнуло ни английской де-ревянностью, ни французской распущенностью. Богатые дворяне стараются перенимать у соседей европейцев все щегольское, красивое, тонкое. Быть комильфотным - значит не позволять себе ничего экстравагантного. Ценится опрятность во всем - белоснежное белье; ни пылинки, ни складки на платье: на английском макинтоше без талии, панталонах от Шевреля, фраке, шитом в Лондоне...
Версификация среди образованного сословия - болезнь повальная, но почитаются поэты истинные - Пушкин, Жуковский, Баратынский, Языков... В домашних спектаклях играют все без исключения - от мала до велика. В многочисленных салонах царил умеренно фрондерский дух, что воспринималось императором, строго следившим за проявлениями истинного вольнодумства, с достаточной снисходительностью.
Федор Толстой, дядя Алексея Толстого, держал открытый дом: музыкальные и танцевальные вечера сменялись живыми картинами и домашними спектаклями. Алексей Толстой тогда еще не бывал у Федора Петровича, потому что, настроенный матерью, не хотел встречаться там с отцом, который дневал и ночевал у брата. У Федора Толстого часто прохаживались насчет императора. Дочь Федора Петровича вспоминала:
«Резкие речи его иногда доходили до императора; один раз Адлерберг нарочно приехал к отцу и передал ему слова монарха: «Спроси ты, пожалуйста, у Толстого, за что он меня ругает? Скажи ему от меня, чтобы он, по крайней мере, не делал это публично».
Давно кончился XVIII век, век временщиков и произвола. Царь и его семейство при всем могуществе фактически были уже не более чем первыми дворянами государства и не могли не считаться с коллективным самосознанием дворянства. Заведенная после 14 декабря система сыска была внешне грозной, но не слишком действенной, когда дело касалось контроля над умами, что давало право Герцену говорить о «времени наружного рабства и внутреннего освобождения».
Алексей Толстой, проявивший потом себя как сатирик, в свои двадцать лет еще мало задумывался над политическими сложностями эпохи, да и сильно было влияние многочисленных Перовских, упорно делавших большую карьеру. Они и Алексея Толстого прочили на высокие посты.
В одном из его писем того времени есть такое: «Дядя мой Л.А. Пер(овский) известил меня, что В(аше) пр(евосходительство) сообщили ему намерение е. и. в. госуд. наследника поручить мне должность секретаря при его особе...» Это был дальний прицел «русской» партии при дворе, боровшейся за влияние с «немецкой» партией Бенкендорфа, Нессельроде, Клейнмихеля и других. Но назначение почему-то не состоялось. Скорее всего сказалось отвращение Толстого к бюрократии и манкирование им службой вообще.
Живя в Красном Роге с осени 1837 года, Толстой с удовольствием переписывается со своими молодыми петербургскими знакомыми. Письма он сочиняет в виде веселых «фантазий в нескольких действиях, не считая интермедий и дивертисментов», в которых наряду с вымышленными персонажами действуют его вполне реальные светские знакомые - Безбородко, Голенищев-Кутузов... Там множество пародий, выказывающих превосходное знакомство Толстого с репертуарами столичных театров, а также с модными сочинениями. Свои письма Толстой снабжал карикатурными иллюстрациями.
Со смертью Алексея Алексеевича Перовского его стал опекать дядя Лев Алексеевич Перовский, упорно старавшийся приобщить Толстого к государственным делам. Так, он дал ему ответственное поручение приглядеться к главнейшим статистическим учреждениям в Европе ипредставить ему результаты этих наблюдений. Толстой частично выполнил это поручение, ознакомился с французской и баварской статистическими комиссиями, но сохранившийся черновик его отчета полон скрытой иронии. Он советует обратиться к многочисленным сочинениям на сей счет. Что же касается изложения собственных наблюдений применительно к русским потребностям, то он желал бы знать, «какие средства людьми и деньгами могут быть употреблены на это?».
Князь А.В. Мещерский, светский знакомый Толстого, рассказывает в мемуарах о своей семье, о матери, о сестре Елене, которая из милого подростка вдруг сделалась красивой барышней. Толстой влюбился в Елену Мещерскую не на шутку, но Анна Алексеевна была настороже...
Мещерский пишет: «Графиня-мать очень была дружна с моей матушкой и поэтому разрешила своему сыну бывать у нас. Впоследствии, когда сын ее был уже взрослым человеком и поведал матери свою первую юношескую любовь к моей сестре, причем просил разрешения просить ее руки, она, по-видимому, гораздо более из ревности к сыну, чем вследствие других каких-нибудь уважительных причин, стала горячо противиться этому браку и перестала видеться с моей матерью. Сын покорился воле матери, которую он обожал. Эта ревность графини к единственному своему сыну помешала ему до весьма зрелого возраста думать о браке...»
В семье девушки об Алексее Толстом были самого высокого мнения. А.В. Мещерский вспоминал: «Многолетняя дружба с этим замечательным человеком дает мне несомненное право думать, что мое мнение о нем как о лучшем из всех людей, которых я только знал и встречал в жизни, верно и не преувеличено. Действительно, подобной ясной и светлой души, такого отзывчивого и нежного сердца, такого вечноприсущего в человеке нравственного идеала я в жизни ни у кого не видел». Примерно так отзывался об Алексее Толстом всякий, с кем его сводила судьба и впоследствии.
Анна Алексеевна не выпускала сына из поля зрения ни на месяц. Была она с ним и в Италии в октябре 1838 года.
Через тридцать четыре года, посетив Комо снова, Алексей Константинович Толстой вглядывался в озеро, по которому ходили «голубые волны, золотистые, с маленькими серебряными шипочками», и чувствовал, что «шум от них идет в самое сердце». Так он вспоминал в одном из писем. И все здесь: горы «почти что наотвес», собор, где с обеих сторон у дверей стояли статуи двух древних римлян - Плиния Старшего и Плиния Младшего в докторских мантиях четырнадцатого века, башни замка Бараделло - все напоминало ему о молодости и о романтическом приключении...
Толстой ходил тогда на виллу Реймонди вместе с наследником стрелять в цель и в голубей. Жуковский был с ними. Перед дворцом около большой дороги, на лужайке стоял большой ясень, под которым всегда сидели аббаты. Жуковский нарисовал ясень в своем альбоме, но с аббатами не справился и попросил Алексея Толстого нарисовать ему одного, что тот и сделал.
Однажды утром Толстой заметил в окне нижнего этажа девушку редкой красоты, с очень тонкой талией и уже развитой грудью. Она поглядывала на него с нескрываемым интересом. Он сказал ей несколько комплиментов, она оказалась бойкой девушкой, смело отвечала ему, и глаза ее обещали многое...
Ему захотелось встретиться с девушкой, и он нарочно забыл пороховницу в одной из гостиных виллы, а днем пошел ее разыскивать. Девушка оказалась дочерью местного сторожа, и звали ее Пеппина. Она охотно взялась помочь Толстому отыскать пороховницу, и они нашли ее в комнате, в которой были закрыты ставни.
«Прежде чем уйти, - вспоминал Толстой, - я сделал Пеппине объяснение в любви - такое, что она не могла больше сомневаться в моих чувствах. Остальное я забыл...»
Нет, он ничего не забыл и тридцать четыре года спустя, когда снова посетил виллу Реймонди, увидел ясень и под ним аббата, как тогда. Он позвонил у решетки, и калитку ему открыла молодая девушка, как в былое время открывала ее Пеппина.
«Она была похожа на Пеппину, но я хорошо знал, что это не была она, так как ей тогда было 16 лет, которых она теперь более иметь не может, по крайней мере, я так думаю.
Я попросил видеть сторожа, и старый человек пришел, но я знал, что это не был тот же самый, так как тому было тогда лет шестьдесят, и ему не могло быть их и теперь.
На мои вопросы новый сторож сообщил мне, что прежний умер, а также и жена его, но он ничего не мог мне сказать о Пеппине.
Он был тогда помощником сторожа, и у него глуповатый вид.
Я попросил его открыть мне, и я отыскал комнату и стул, на который я сел, как во время оно. Он спросил меня, не родственник ли я прежнему сторожу? Я отвечал: «Да, немного». Потом я посетил сад, и, к его удивлению, я ему указал место, где прежде было стрельбище... Это мне напомнило удивление швейцара дома Шиллера в Веймаре, когда я вернулся в него после тридцатипятилетнего отсутствия и расспрашивал его о различных лицах 26-го года.
- Но вы у меня спрашиваете о лицах, которые давно умерли, - сказал он мне. - Кто же вы?
Тем не менее я не отчаиваюсь найти Пеппину.
Я поручу это моему другу, старому лодочнику Франжи, и, если она не умерла, я пойду навестить ее».
В декабре 1838 года в Риме Алексей Толстой снова встретился с Гоголем и был приятно поражен переменой в его внешности. Исчез смешной хохолок, не стало костюма, составленного из резких противоположностей щегольства и неряшества; отрывистая речь, прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, сменилась плавным течением слов, и лишь глаза по-прежнему излучали доброту, веселость и любовь. Теперь у него были прекрасные белокурые волосы почти до плеч, он отпустил усы и эспаньолку, которые как-то скрадывали длинный и кривоватый нос; просторный сюртук вместо модного фрака придавал ему солидность.
Это тогда Гоголь, желая помочь одному своему земляку-художнику, согласился читать «Ревизора» у княгини Зинаиды Волконской в ее Палаццо Поли. Все русские бросились покупать билеты, съезд был огромный. Но Гоголь, чем-то расстроенный, читал монотонно. Многие из высокопоставленной публики не вернулись к чтению второго действия и даже говаривали: «Этой пошлостью он кормил нас в Петербурге, теперь он перенес ее в Рим». Художники и друзья Гоголя были возмущены таким поведением знати, и Алексей Толстой тоже.
Из окружения наследника престола Алексею Толстому был ближе всего молодой граф Иосиф Виельгорский, юноша очень любознательный, жадный до знаний. Он слушал курс наук вместе с наследником, но особенной дружбы между ними не было, потому что Александр не обладал волевой целеустремленностью и чувствовал себя неловко с людьми цельными. Впоследствии Александр II подчинялся разнородным влияниям, включая и самые дурные, что делало его политику расплывчатой и противоречивой, и при всех своих либеральных (по сравнению отцовскими) делах терпел губительные провалы.
Гоголь сдружился с Виельгорским и Толстым. Они узнали Рим с такой стороны, с какой из русских знал Вечный город лишь один Гоголь... У Виельгорского была чахотка. Он умер в мае. Смерть этого добрейшего и талантливого молодого человека Гоголь и Толстой переживали тяжко.
Как-то Александра Осиповна Россет-Смирнова, знавшая Алексея Толстого с детства, побывала вместе с ним и Гоголем на богослужении в соборе святого Петра. Престарелого папу Григория VI внесли на носилках с балдахином. Длинноносый худой старик со слезящимися глазами часто делал знаки носильщикам, чтобы они останавливались - папа боялся головокружения. На паперти он простер руки, толпа стала на колени. Играла музыка, звонили колокола, стреляли пушки. В толпу бросали индульгенции, началась свалка, люди грубо рвали друг у друга из рук отпущение грехов прошлых и будущих. Странно было наблюдать этот средневековый пережиток, но картина в общем была забавная и красочная. Кардиналы были в красных мантиях, аббаты - в лиловых, папские гвардейцы - в красных мундирах с белыми султанами...
Толстой с матерью больше жил в Ливорно, где у графини был салон. Летом 1839 года историк Погодин встретил Толстого в Париже.
Толстой унаследовал от Алексея Перовского интерес к мистике и громадную библиотеку, посвященную таинственным явлениям. В те годы Толстой писал рассказы на французском языке вроде «Семьи вурдалака», весьма искусно преподносил всякие ужасы в духе английских «готических» или «страшных» романов, начиненных встречами с призраками и вампирами.
Писатель Болеслав Маркевич, который впоследствии перевел «Семью вурдалака» с французского на русский, писал в примечании: «Рассказ этот вместе с другим: «Свидание через 300лет»... заключающимся в той же имеющейся у меня тетради покойного графа А. К. Толстого, принадлежит к эпохе ранней молодости нашего поэта. Они написаны по-французски, с намеренным подражанием несколько изысканной манере и архаическим оборотам речи conteur'oв Франции XVIII века».
Вскоре он написал и фантастическую повесть в том же роде, назвав ее «Упырь», но уже по-русски и с русскими героями. Он следовал по стопам своего дядюшки Антония Погорельского, Гоголя, Владимира Одоевского...
Да и не у них одних домовые, привидения, бесы, движущиеся сами по себе неодушевленные предметы появлялись в романтических сочинениях. Традиция восходила к Гёте, Нодье, Мериме, Грильпарцеру, Гофману... Интерес к сверхъестественному у Толстого останется на всю жизнь, хотя он и пытался иронизировать над собственным увлечением.
В «Упыре» у Толстого фантастика замешана на русской действительности. На многолюдном московском балу герой повести Руневский встречается с молодым, бледным и совершенно седым незнакомцем, который обращает его внимание на бригадиршу Сугробину и ее внучку Дашу и утверждает, что был на похоронах старухи и та теперь «не что иное, как гнусный упырь», ждущий удобного случая, чтобы насытиться кровью внучки. На балу оказываются и другие упыри. Однако вскоре Руневский знакомится с Сугробиной и ее внучкой, и все вроде бы разъясняется.
«- Знаю, мой батюшка, - говорит старуха о незнакомце, - это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж три года, как помешался в уме. А это все от модного воспитания. Ведь, кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие края! Пошатался там года с три, да и приехал с умом наизнанку...»
Так строится вся повесть. Толстой завлекает читателя «жуткими» подробностями и приключениями, но каждый раз вновь возвращает его на реальную почву. Однако целый ряд фантастических совпадений оставляет подозрение, что все они совершаются не зря - что-то сверх разумения человеческого существует на самом деле.
В реалистичной части повести чувствуется ироническое настроение Толстого. Высказывалось мнение, что бригадирша Сугробина с ее сочными рассказами списана с бабушки Марьи Михайловны, по это вряд ли соответствует истине, так как Сугробина - типичная московская старая барыня и по разговору, и по повадкам. А Марья Михайловна, хоть и приобрела дом в Москве, и прежде и потом все больше живала на Украине со своим новым мужем генералом Петром Васильевичем Денисьевым. Видно, что-то осталось в ней привлекательное после сорока лет жизни с Разумовским и многочисленных родов. Алексей Толстой бывал в их громадном украинском доме, полном всякой прислуги. Во время обеда там играл оркестр на хорах. Супруги выходили нарядные - Марья Михайловна в чепце с цветами, а дородный Денисьев в генеральском мундире - под звуки марша с хоров. Обеды длились долго - по два часа, подавалось двенадцать блюд, и генерал брал по два раза каждое. Умер он «от объядения». Марья Михайловна последовала за ним несколько лет спустя, в год смерти своего любимого сына Алексея Перовского.
Нет, в повести отразились иные, московские, впечатления. Тогдашние светские нравы изображены весьма язвительно. Особенно достается барышням вроде Софьи Карповны, жеманным, претенциозным, злым на язык. Зато как трогательно он рисует скромницу и умницу Дашу, как подробно изображает движения ее души, отражающиеся всякий раз в выражении ее лица. Возможно, он рисовал свой весьма туманный идеал любимой, который видел в княжне Мещерской или в ком-нибудь другом.
Одна из линий повести уводит читателя далеко, в Италию, к озеру Комо, на виллу Ремонди, где живет дочь тамошнего сторожа Пепина, сестра контрабандиста Титты Канелли. И мы уже догадываемся, какое воспоминание легло в те строки, где узнаватель упырей Рыбаренко вдруг застает в комнате заброшенной виллы Пепину, которая просит его выхлопотать прощение для брата.
«И говоря это, она обнимала мои колена, и крупные слезы катились по ее щекам. Огненного цвета лента, опоясывавшая ее голову, развязалась, и волосы, извиваясь как змеи, упали на ее плечи. Она так была прекрасна, что в эту минуту я забыл о своем страхе, о вилле Urgina и об ее преданиях. Я вскочил с кровати, и уста наши соединились в долгий поцелуй...»
Но не в описании различных романтических обстоятельств проявил себя искусником Алексей Толстой. Он блеснул умением строить очень сложный сюжет, раскрывая в себе дар драматурга. Все намеченные им в завязке ходы переплетаются сложнейшим и неожиданнейшим образом. Тут проклятье, тяготеющее над всем родом, и громадное (для повести небольшого объема) число перипетий... Стоит лишь упомянуть, что Рыбаренко оказывается незаконнорожденным сыном Сугробиной и кончает с собой, бросившись с колокольни Ивана Великого...
Толстой напечатал «Упыря» отдельной книгой в 1841 году, предварительно прочитав ее литераторам, собиравшимся у Соллогуба. Белинский сразу же заметил нового литератора и обнаружил в повести «все признаки еще молодого, но тем не менее замечательного дарования». Незрело все, конечно: чрезмерная пылкость и напряженность фантазии не умеряются еще опытом жизни. В фантастике нет глубокой мысли. Но «несмотря но внешность изобретения, - продолжал критик, - уже самая многосложность и запутанность его обнаруживают в авторе силу фантазии; а мастерское изложение, уменье сделать из своих лиц что-то вроде характеров, способность схватить дух страны и времени, к которым относится событие, прекрасный язык, иногда похожий даже на слог, словом, во всем отпечаток руки твердой, литературной, - все это заставляет надеяться в будущем на многое от автора «Упыря». В ком есть талант, в том жизнь и наука сделают свое дело, а в авторе «Упыря» - повторяем - есть решительное дарование».
Автора Белинский не знал. На титульном листе книги стояло: Упырь. Сочинение Краснорогского. СПб. 1841.
О литературных занятиях Алексея Толстого свидетельствует и письмо, направленное издателю «Современника» П. А. Плетневу.
«11 марта 1840 г.
Милостивый государь
Петр Александрович,
Если Вы найдете стихотворения мои достойными «Современника», то я почту себя счастливым, содействовав толщине сего журнала. Так как я малороссиянин, то легко быть может, что Вы встретите в меня ошибкы против правописания. В таком случае Вы, милостивый государь, немало меня обяжете, приняв на себя труд оные исправит, ибо мне на старости лет учиться Орфографии и Пунктуацыи кажется столько же трудным, сколько и бесполезным!
Прымите, милостивый государь, уверение в истинном, почтении и совершенной преданности, с которымы честь имею бить
Вашим покорнейшим слугою.
Афанасий Погорельский»
Так было положено начало знаменитым потом мистификациям, но на этот раз стихи Афанасия Погорельского, предтечи Козьма Пруткова, не были напечатаны, и следы их пока, к сожалению, не обнаружены.
Приходно-расходная книга Алексея Толстого за 1841 год говорит о том, что он держал лошадей, заказывал ливреи для слуг, а для себя десятки пар перчаток, бывал в опере, посещал балы и концерты, абонировался на модное тогда катание с гор, учился рисовать красками, купил только что появившиеся телефонные аппараты, только в январе трижды ездил охотиться. Позже появляются записи крупных сумм, истраченных на медвежью охоту, которая не всегда кончалась благополучно...
Было время, когда медведи еще водились в окрестностях Ораниенбаума. Егеря отыскивали для Толстого берлоги, поднимали зверей, а он бил их в упор из ружья или, что было интересней, брал их на рогатину. Эта молодецкая забава требовала отчаянной смелости, громадной силы и ловкости. Надо было ждать, когда медведь приблизится почти вплотную, всадить ему в грудь острие рогатины и упереть ее древко в землю устойчиво, чтобы, напирая всей тушей, зверь сам пронзил себя. И здесь уж берегись - стоило дрогнуть, замешкаться, и рогатина разлеталась на куски от удара медвежьей лапы, другой удар сносил полчерепа неудачливому охотнику. За свою жизнь Толстой убил не менее сотни медведей, десятки раз он видел совсем рядом пасть с желтыми клыками, ощущал на своем лице зловонное дыхание зверя, увертывался от ударов могучих лап, а иной раз и цепляли его когти, вспарывая одежду и оставляя глубокие рваные раны...
Охотился он на всякую дичь. За год до смерти писал: «В старости я намерен описать многие захватывающие эпизоды из этой жизни в лесу, которую я вел в лучшие свои годы и от которой теперешняя моя болезнь оторвала меня, быть может, навсегда. Теперь же могу только сказать, что любовь моя к нашей дикой природе, проявлялась в моих стихотворениях так же, по-видимому, часто, как и свойственное мне чувство пластической красоты».
Он не успел выполнить своего намерения, а наброски к воспоминаниям, которые, несомненно, существовали, погибли безвозвратно. Остались только очерки «Волчий приемыш» и «Два дня в киргизской степи», напечатанные в начале сороковых годов в «Журнале коннозаводства и охоты».
Первый связан с охотничьим приключением в Красном Роге, второй - с поездкой в Оренбург в июне 1841 года.
Путешествовать в то время по российскому бездорожью было совсем непросто. «От Москвы до Нижнего - ни одной почтовой лошади, - писал А.К. Толстой; - дороги, превосходящие все самое чудовищное, что может создать горячечное воображение: до Владимира - якобы шоссейная дорога, каждый камешек которой по объему соответствует булыжнику петербургских мостовых, а по своей форме - артишоку; провалившиеся мосты, насыпи, размытые весной во время ледохода... а для переправы через Волгу - какие-то жалкие лодчонки и, наконец, в довершение бедствий - прочно слаженный экипаж, который ломается 11 раз в течение 20 дней...»
Толстой приехал в Оренбург вместе с камергером Скарятиным, который собирался там лечиться кумысом.
Оренбургским военным губернатором и командующим тамошним отдельным корпусом был старший брат Анны Алексеевны - Василий Алексеевич Перовский, личность настолько незаурядная, что Лев Толстой собирался писать о нем роман...
Алексей Толстой нашел своего дядю очень больным - на месте старой раны сделалась громадная опухоль, требовавшая хирургического вмешательства.
Тридцати восьми лет от роду Перовского назначили начальником обширного пограничного края, снабдив почти неограниченными полномочиями. Он был решителен, смел, порой даже жесток. Он мог предать смерти ослушавшегося подчиненного и стоять на своем до конца перед самым высоким начальством, если считал себя правым. На брюлловских портретах он красив, статен, усы у него лихо закручены, лоб высокий, взгляд умных глаз холоден. На одном из портретов он изображен в полный рост на фоне степи, лошадей, кибиток, на указательном пальце левой руки длинный серебряный наперсток, палец ему оторвало пулей в Бородинском сражении.
Перовский много сделал для освоения края. Правда, в походе на Хиву, предпринятом с шеститысячным отрядом, его постигла неудача из-за сильных морозов и падежа верблюдов.
Административным центром края была Уфа, но Перовский предпочитал быть ближе к войскам и жил в Оренбурге. Это к нему, «нежданный и нечаянный», приехал в 1833 году Пушкин собирать материалы для своей «Истории пугачевского бунта». Они с Перовским были на «ты». Пушкин остановился в доме губернатора на Губернской улице, а потом перешел жить к Владимиру Далю, с которым вместе ходил обедать к Перовскому. Издатель «Русского архива» П. Бартенев писал о неизданной рукописи, содержавшей рассказ самого Пушкина:
«Поздно утром Пушкина разбудил страшный хохот. Он видит: стоит Перовский, держит письмо в руках и заливается хохотом. Дело в том, что он получил письмо от Б. из Нижнего (от губернатора Бутурлина. - Д.Ж.), содержания такого: «У нас недавно проезжал Пушкин. Я зная, кто он, обласкал его, но, должно признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами о Пугачевском бунте; должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтоб вы были осторожнее...» Тогда Пушкину пришла идея написать комедию «Ревизор». Он сообщил после об этом Гоголю, рассказывал несколько раз другим и собирался сам что-то написать в этом роде».
Позже нижегородский военный губернатор М.П. Бутурлин получил указание из Петербурга о секретном полицейском надзоре за поэтом, о чем он известил, в свою очередь, Перовского, а тот сделал пометку на бумаге:
«Отвечать, что сие отношение получено через месяц по отбытии г. Пушкина отсюда, а потому, хотя во время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий».
Все это было рассказано Алексею Толстому его дядей, оренбургскими чиновниками и офицерами. Перовский поручил племянника заботам завзятого охотника инженерного полковника Артюхова, который первым делом сводил Толстого в свою знаменитую на весь Оренбург баню, а в ней в свое время побывал и Пушкин. Веселый, круглолицый, голубоглазый, но уже растерявший свои золотые кудри Артюхов потчевал Толстого пивом и поведал ему о своем разговоре с Пушкиным об охоте.
- Вы охотитесь, стреляете? - спросил Александр Сергеевич.
- Как же-с, понемножку занимаемся и этим; не одному долгоносому довелось успокоиться в нашей сумке.
- Что же вы стреляете, уток?
- Помилуйте-с, кто будет стрелять эту падаль! Это какая-то гадкая старуха, - ударишь ее по загривку, она свалится боком, как топор с полки, бьется, валяется в грязи, кувыркается... тьфу!
- Так что же вы стреляете?
- Нет-с, не уток. Вот как выйдешь в чистую рощицу, как запустишь своего Фингала, а он - нюх направо, нюх налево... и стойку: вытянулся, как на пружине... одеревенел, окаменел! Пиль, Фингал! Как свечка загорелся, столбом взвился...
- Кто, кто? - перебил Пушкин, весь поглощенный рассказом.
- Кто-с? Разумеется, кто: слука, вальдшнеп. Тут ца-рап его по сарафану... А он только раскинет крылья, головку набок... замрет в воздухе, умирая, как Брут!
Полковник Артюхов раскинул врозь руки, доказывая смерть вальдшнепа. Толстой слушал не дыша.
- А что дальше? - спросил он.
- Дальше-с Александр Сергеевич долго смеялся, а через год прислал мне свою «Историю Пугачевского бунта» с надписью. Вот смотрите.
Он протянул Толстому книгу, на которой рукой Пушкина было написано: «Тому офицеру, который сравнивает вальдшнепа с Валенштейном».
Алексей Толстой еле сдержал смех, он почувствовал, что Артюхов обижен на поэта, не запомнившего имени...
Время было летнее, и вскоре Толстой выехал на «кочевку», в летнюю резиденцию Перовского, которая была между Оренбургом и Уфой, у реки Белой. Он хотел поохотиться с соколами на уток и стрепетов, но соколов еще только ожидали, и он ходил с легавой за тетеревами. На холмах, покрытых дубняком и березняком, в долинах, где росли усыпанные ягодами кусты, охота была невиданная. За три часа каждый охотник убивал шестьдесят-семьдесят тетеревов. Такая охота сперва забавляла, потом приелась, потеряла прелесть, была похожа на бойню, какую устраивают в немецких охотничьих парках.
Но тут пришло на «кочевку» известие, что за Уралом появились табуны сайгаков. Казаки рассказывали Толстому, что во время Хивинского похода гонялись за антилопами на самых быстрых скакунах и не могли догнать. Однажды удалось окружить табун и загнать в середину верблюжьего обоза, но сайгаки без всякого усилия перепрыгнули через навьюченных верблюдов и исчезли из виду.
В сопровождении вооруженных башкир и казаков Толстой отправился по речке Белгуш к Уралу. Он был возбужден, целый день перед отъездом выливал пули, делал патроны. Ехали быстро, останавливаясь в станицах для короткого отдыха и подкрепления. Через реку Урал переправились у Сухореченской... Толстой описывал переправу так:
«Крутые берега, утесы, тарантас, до половины погруженный в воду, прыгающие лошади, башкирцы, вооруженные луками, наши ружья и сверкающие кинжалы, все это, освещенное восходящим солнцем, составляло прекрасную и оригинальную картину. Урал в этом месте неширок, но так быстр, что нас едва не унесло течением. На другой стороне степь приняла совершенно новый вид. Дорога скоро исчезла, и мы ехали целиком по крепкой глинистой почве, едва покрытой сожженною солнцем травою. Степь рисовалась перед нами во всем своем необъятном величии, подобная слегка взволнованному морю. Тысячи разноцветных оттенков бороздили ее в разных направлениях; в иных местах стлался прозрачный пар, через другие бежали тени облаков, и все казалось в движении, хотя ничто не поражало нашего слуха, кроме стука колес и конского топота. Вдруг один башкирец остановил коня и протянул руку. Последовав глазами направление его пальца, я увидел несколько светло-желтых точек, движущихся на горизонте: то были сайгаки...»
А потом он полз с казаками по жесткой, как камень, глине, покрытой еще маленькими острыми камешками, потом стрелял, промахнулся и снова стрелял, попал сайгаку в шею, заслужил у казаков за меткость одобрительный возглас: «Джигит!»
На другой день снова была охота, и казак ловко добил раненого сайгака метким ударом нагайки по носу. А вечером башкиры состязались в стрельбе из лука, боролись, пробовали силу. В борьбе ловкие башкиры бросали его на землю, но никто не мог взять над ним верх «в пробовании силы». Очевидно, в поднятии тяжестей.
«Когда настала ночь, мы все вместе отправились в Сухореченскую крепость. Казаки затянули песни, и голоса их терялись в необъятном пространстве, не повторяемые ни одним отголоском... Песни эти отзывались то глубоким унынием, то отчаянною удалью и время от времени были приправляемы такими энергетическими словами, каких нельзя и повторить...
Как теперь вижу я небо, усеянное звездами, и степь, похожую на открытое море; как теперь слышу слова:
Дай нам бог, казаченкам, пожить да послужить,
На своей сторонушке головки положить!
Слышу глухой топот и фырканье коней, бряцание стремян, шум и плеск воды, когда мы переезжали через Урал...»
Алексей Толстой был прекрасно воспитанным молодым человеком. Аристократическое воспитание обязывало его всегда быть подтянутым, держаться просто и непринужденно в любом обществе, к неприятностям относиться стоически и даже с иронией, скрывать свои мысли. Да и некому было «поверять мои огорчения, некому излить мою душу», - скажет он потом.
Анне Алексеевне Толстой казалось, что она живет интересами сына. Она хлопотала о его придворной карьере и благосостоянии, упивалась почтительностью и послушанием Алексея, ревниво относилась к любому его увлечению - будь то стихи или женщина. Ей хотелось, чтобы сын, пользуясь своим общественным положением «друга наследника престола», делал карьеру.
Жизнь Алексея Толстого до определенного возраста просматривается словно сквозь золотистую дымку. Все теряется в благополучии или, как он сам выражался, во «внешних событиях», а о «жизни внутренней» приходится лишь догадываться.
Отец дал ему графский титул. Дядя Алексей Перовский оставил громадное состояние - более трех тысяч крепостных в Черниговской губернии. Мать избавила его от хозяйственных забот, взяв на себя управление имениями. С помощью влиятельных братьев она старалась преумножить состояние, пускаясь в рискованные финансовые операции, «участвуя в золотых промыслах Оренбургской губернии».
Анна Алексеевна пыталась приохотить сына к своей деятельности, но он не проявлял к этому никакого интереса и навсегда остался человеком непрактичным.
Если судить по «Списку чинам II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии», занимавшейся подготовкой различных законов и указов, то Алексея Толстого в это учреждение определили в 1841 году младшим чиновником в чине губернского секретаря. Служил он без рвения, сразу разобравшись, что инициатива не только не поощрялась, но во многих случаях была даже наказуема. Громоздкий административный аппарат империи был проникнут духом равнодушия и неприязнью к каким бы то ни было переменам.
Толстого охотно отпускали в поездки по стране и за границу, и если возникало желание поохотиться, то в Красный Рог из Петербурга летело письмо с просьбой к матери выхлопотать у главноуправляющего II отделением графа Д.Н. Блудова внеочередной отпуск: «Матушка, прикажите мне к Вам приехать!»
И где бы он ни был, за ним следило недреманное око родственников. Лев Алексеевич Перовский, назначенный министром внутренних дел, опекал его в Петербурге. Василий Алексеевич - в Оренбурге...
Их заботами Алексея Толстого повышали в чинах при всяком удобном случае. Следовали «Всемилостивейшие пожалования» в коллежские секретари и титулярные советники (1842), в коллежские асессоры (1845), в надворные советники (1846), в коллежские советники (1852).
Кроме того, в 1843 году Толстой получил придворное звание камер-юнкера.
Осенью того же года он анонимно напечатал в «Листке для светских людей» стихотворение «Серебрянка» («Бор сосновый в стране одинокой стоит...»). В последующие десять с лишним лет он не опубликовал ни одного своего стихотворения ни под псевдонимом, ни под собственным именем.
Были попытки публиковать прозу в литературных сборниках «Вчера и сегодня», составлявшихся графом В.А. Соллогубом. Рассказ «Артемий Семенович Бервенковский» (о встрече в пути с помещиком, увлекающимся механикой, строящим вечные двигатели и нелепейшие приспособления) оказался явным подражанием Гоголю и единственной пробой пера в духе «натуральной школы». Отрывок из несохранившегося романа «Стебеловский» под названием «Амена» был назван Белинским «скучной статьей», чем-то «вроде неудачного раздражения мысли, взятой в плен из сочинений Шатобриана». Критик намекал на «Мучеников» французского писателя, тоже сталкивавшего умирающий языческий мир с торжествующим христианством. Здесь несомненно одно - великолепная эрудиция Толстого...
Казалось бы, дарование, обещанное в «Упыре» и замеченное Белинским, не развивается, а раннее стихотворение Толстого «Поэт» - лишь набор громких фраз.
В жизни светской, в жизни душной
Песнопевца не узнать!
В нем личиной равнодушной
Скрыта божия печать...
Жизни ток его спокоен,
Как река среди равнин,
Меж людей он добрый воин
Или мирный гражданин.
Но порой мечтою странной
Он томится одинок;
В час великий, в час нежданный
Пробуждается пророк...
Создается впечатление, что «спокойный ток жизни» его вполне устраивает и он охотно подчиняется настояниям матери и дядюшек не слишком увлекаться литературными занятиями, накапливать светские знакомства и уделять больше внимания делаемой ему карьере. Время от времени родственники хлопочут о предоставлении ему длительных отпусков за границу. Мать по-прежнему не выпускает его из поля зрения. Здоровье ее пошатнулось, она требует ежечасной сыновней заботы. Так, в мае 1846 года Алексей Толстой «с соизволения Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича получил шестимесячный отпуск за границу для сопровождения матери, отправлявшейся туда по болезни».
Из этого отпуска Толстой вернулся лишь через год. «По-видимому, - пишет биограф поэта А.А. Кондратьев, - какая-то серьезная причина заставила графиню держать сына столь долгое время вдали от Петербурга». У матери с сыном была ссора, окончившаяся выражением горячей сыновней любви и обещанием слушаться во всем.
Она и в Петербурге держит его при себе. С ней он делает визиты к ее сверстницам, возит ее в театр и на концерты. Если ему случалось быть в обществе без Анны Алексеевны, графиня не ложилась спать до его прихода, как бы поздно он ни возвращался. Она страшно растолстела, задыхалась и могла спать только на матраце, постеленном на полу.
Алексей Толстой, напротив, чувствовал себя прекрасно. Художник П.П. Соколов в своих воспоминаниях рассказывает об одной встрече у Владимира Александровича Соллогуба, жене которого, Софье Михайловне, урожденной Виельгорской, он давал уроки рисования. Хозяева задержались. В гостиной у рояля стоял высокий, пышущий здоровьем человек с высоким белым лбом. Он обласкал художника взглядом и сказал:
- Чем нам врозь поглядывать друг на друга... присядемте-ка вот сюда. Ведь вы художник Соколов? А позвольте вас спросить, почему вы так пристально на меня смотрели?
- Да потому что вы обладаете таким здоровым цветом лица, что мне, художнику, крайне в диковинку встретить нечто подобное в Петербурге.
- Да, этому я обязан всецело только деревенской жизни. Ведь я постоянно живу в деревне, охочусь, вожусь со своими собаками и беру все, что может дать мне наша общая мать-природа. Но мы с вами еще незнакомы...
Высокий человек встал и подал руку.
- Алексей Толстой... Очень буду рад встретиться с вами. Ведь вы знаете Жемчужникова? Не литератора - тот мой друг, - а художника. Так вот, я у него бываю, и мы можем у него встретиться.
Очерчивается круг людей, с которыми Толстой общался в то время. Это его двоюродные братья Жемчужниковы, это Виельгорские и Соллогубы, это и те, кто посещал салоны Карамзиной, вдовы историка, и знаменитой некогда Авроры Демидовой, обеды Владимира Одоевского, к которым подавали омерзительно пахнувшие «химические соуса», сотворенные хозяином «научным способом»... Бывал там Федор Иванович Тютчев, неизменно остроумный, великолепный рассказчик. Соперничал с ним Вяземский. Толстой встречал там Гоголя, Некрасова, Панаева, поэтессу Ростопчину, Бенедиктова...
Сохранившиеся документы 1848 года опять же говорят о внешних событиях жизни Алексея Толстого. Вот пухлое дело, разбиравшееся в сенате «О захватах и других самоуправных поступках, произведенных крестьянами помещицы Уваровой в имении, называемом Шведским хутором». Это давняя тяжба между законными отпрысками графа Разумовского, которые представлены его дочерью Екатериной Алексеевной Разумовской, а в замужестве Уваровой, и Перовскими - «побочными». Дело началось еще при жизни Алексея Перовского из-за косьбы на лужке на речке Мойсеевке, когда между крестьянами начались драки, за которыми последовали аресты и разбирательства, новые драки, порубки леса, захваты бортовых деревьев. Дело тянулось десятки лет (кус немалый - на хуторе Шведском было 2437 десятин), и выиграли его Перовские, которых формально представлял Алексей Толстой. Из документов известно, что поверенным его был дворовый Данила Гаврилов Архипенко, что самого Толстого, жившего тогда в 1-й Адмиралтейской части, во 2-м квартале, в доме под N30/117, вызывали в канцелярию «для учинения рукоприкладства под выпискою из дела». 28 октября 1848 года пристав доносил, что Толстой находится в Царском Селе в доме Кобылянского. Толстой равнодушно подписывал длиннейшие кляузы, составлявшиеся поверенными.
В том же году Толстой получил такое свидетельство от морского министерства: «Сим объявляется всем и каждому, кому о том ведать надлежит, что предъявитель сего Граф Алексей Константинович Толстой, на основании Высочайше утвержденного 25 сентября 1846 года Устава Императорского С.-Петербургского Яхт-Клуба, внесен февраля 6-го дня 1848 года в список сего клуба под N 24-й...»
Этот документ давал ему права, о которых мы поговорим в дальнейшем...
И на службе и в свете Толстой встречался с одними и теми же людьми. В списках его сослуживцев по II отделению числятся князья Одоевский, Львов, Мещерский, Шаховской, Долгоруков, Юсупов, Щербатов, Урусов, графы Шувалов, Рибопьер... Фамилии громкие, но ни один из них не оставил какого бы то ни было следа в духовной жизни Толстого, и если есть упоминания о них в его переписке, то по самым незначительным случаям.
Пышные дворцовые церемонии, присутствие на бесконечных парадах и балах, встречи с императором и его наследником, высшими сановниками государства - все это для него каждодневная рутина, осмысливавшаяся Толстым с досадой, которая едва сглаживалась иронией.
И на службе и при дворе Толстой держится с большим достоинством. Его громадная физическая сила, рост, осанка, остроумие, которое избавляет его от слишком назойливых придворных, поездки на охоту с наследником престола и многое другое создает ему неуязвимую репутацию, позволяет жить и на виду и в то же время особняком...
Вот ему уже тридцать лет. И за тридцать. Он в чинах. Неженат - маменька усердно расстраивала налаживавшиеся было его отношения с ненавистными ей представительницами слабого пола, всякий раз увозя или отправляя Толстого подальше, предпочтительно за границу.
Но так ли уж пусто и бессмысленно протекали его дни? Все ли «в жизни светской, в жизни душной», под «личиной равнодушной»?
К 1848 году относится первая мимолетная встреча Алексея Константиновича Толстого и Софьи Андреевны Миллер. Подробности этой встречи неизвестны, и можно было бы вовсе не упоминать о ней, если бы не новая встреча через три года, преобразившая Толстого. В потоке писем, хлынувшем к Софье Андреевне после этой встречи, очень много признаний, касающихся «жизни внутренней» начиная с времен давних...
«У меня были внутренние бури, доводившие меня до желания биться головой об стену. Причиной этого было лишь возмущение против моего положения...»
Он бьется в золотой клетке, созданной для него родственниками, всем строем жизни, которую придумали дня него. Как ему вырваться? Как попасть в общество людей, любящих искусство, и вернуться к тому, для чего он предназначен природой?
«Но как работать для искусства, когда слышишь со всех сторон слова: служба, чин, вицмундир, начальство и тому подобное?
Как быть поэтом, когда совсем уверен, что вас никогда не напечатают, и вследствие того никто вас никогда не будет знать?
Я не могу восторгаться вицмундиром, и мне запрещают быть художником; что мне остается делать, если не заснуть? Правда, что не следует засыпать и что нужно искать себе другой круг деятельности, более полезный, более очевидно полезный, чем искусство; но это перемещение деятельности труднее для человека, родившегося художником, чем для другого...»
Служба? Он бы рад быть полезным, но ведь большинство людей «под предлогом, что служат, живут интригами, одна грязней другой».
Как он завидует людям, которые наряду со службой занимаются еще и искусством! У них и лица другие. «Так и видно, что в них живут совсем другие мысли, и смотря на них, можно отдохнуть».
Он убежден, что «для служебной жизни» не рожден и пользы ей принести может мало.
«Я родился художником, но все обстоятельства и вся моя жизнь до сих пор противились тому, чтобы я сделался вполне художником.
Вообще вся наша администрация и общий строй - явный неприятель всему, что есть художество, - начиная с поэзии и до устройства улиц...
Я никогда не мог бы быть ни министром, ни директором департамента, ни губернатором...»
Но выбора у него нет. В России стараются всех запихнуть в одну форму, в служебную.
«Иной и влезет, а у другого или ноги длинны, или голова велика - и хотел бы, да не впихаешь!
И выходит из него черт знает что такое.
Это люди или бесполезные, или вредные, но они сходят за людей, отплативших свой долг отечеству, - и в этих случаях принята фраза: «Надобно, чтобы каждый приносил по мере сил пользу государству».
Те же, которые не служат и живут у себя в деревне и занимаются участью тех, которые вверены им богом, называются праздношатающимися или вольнодумцами. Им ставят в пример тех полезных людей, которые в Петербурге танцуют, ездят на ученье или являются каждое утро в какую-нибудь канцелярию и пишут там страшную чепуху».
Толстой полагает, что из него вышел бы «хороший сельский хозяин», то есть помещик (в чем, как показало будущее, он явно ошибался).
Толстой отчасти проникнут теми настроениями дворянства, о которых писал Герцен:
«В глубине провинции и особенно в Москве явно увеличивается класс независимых людей, не соглашающихся ни на какую публичную службу и занимающихся управлением своих имений, науками и литературой. Они ничего не требуют от правительства, если это последнее оставляет их в покое. Они - полная противоположность петербургской знати, которая привязана к публичной службе и ко двору, преисполнена рабского честолюбия, ждет всякой правительственной службы и ею только живет. Ничего не прося, оставаясь независимыми и не добиваясь должностей, они именуются при деспотическом режиме творцами оппозиции. Правительство косо глядит на этих «лентяев» и недовольно ими. На самом деле они составляют ядро цивилизованных людей и настроены против петербургского режима...»
Но положение Алексея Толстого двойственно - он совершенно лишен «рабского честолюбия», хотя и «привязан ко двору». Эта привязанность обуславливалась волей всего клана Перовских, которые считали своим священным долгом служить императору.
Николай I считал своим долгом навести порядок в таком великом и сложном государстве, как Россия, искоренить воровство и произвол, добиться процветания... Он старался регламентировать каждый шаг своих подданных, старался лично уследить за всем, без его утверждения не строилось даже ни одно казенное здание в стране. Он добился того, что внешне утвердился казарменный порядок. Но за этим фасадом царила формалистика, прикрывавшая те же произвол, лихоимство и казнокрадство. Бюрократическая формалистика развращала людей как ничто другое. Она порождала всеобщее лицемерие, которое само по себе исключало веру и убеждение.
Реакция на это людей честных, для которых смысл жизни был не в одних лишь материальных соображениях, проявлялась по-разному - одни бежали от казенщины в частную жизнь, другие боролись с лихоимством, оставаясь на службе, третьи отрицали существующий порядок целиком и, пытаясь заявлять о своих взглядах публично, подвергались гонениям.
Зная благодаря своим связям механику государственной цензуры, надзора над мыслями, Толстой все-таки мечтает о литературном поприще. Он твердо верит, что его призвание - быть писателем.
«Это поприще, в котором я, без сомненья, буду обречен на неизвестность, по крайней мере, надолго, так как те, которые хотят быть напечатаны теперь, должны стараться писать как можно хуже - а я сделаю все возможное, чтобы писать хорошо... С раннего детства я чувствовал влечение к художеству и ощущал инстинктивное отвращение к «чиновнизму» - к «капрализму».
Я не знаю, как это делается, но большею частью все, что я чувствую, я чувствую художественно...»
Толстой скромен. Работает он много, но не считает пока возможным публиковать написанное. С тягостным чувством он ездит на службу. По воспоминаниям, Толстой приходит в дурное настроение и ворчит, когда надо ехать на очередное дежурство во дворец, где у него тоже есть обязанности, связанные с придворным званием. Зато ночью он предоставлен самому себе. Толстой читает, пишет, и ночная работа переходит у него в привычку, оставшуюся на всю жизнь. Но это потом сказалось на его здоровье, так как спал он всегда очень мало - в каком бы часу Толстой ни лег, в шесть утра он уже бывал на ногах.
Тут-то и разрушается окончательно представление об Алексее Константиновиче Толстом как о человеке, чья молодость прошла бесцельно, в одной лишь светской суете, в рабском подчинении деспотическим требованиям родных, в бесплодном существовании. Все эти годы он учится, запойно читает, его можно считать одним из самых образованных людей своего времени. Но его ничуть не манит и ученая карьера. Он остро чувствует красоту мира, он ищет себя в искусстве.
«Я рожден художником не только для литературы, но и для пластических искусств, - рассуждает он. - Хотя я сам ничего не могу сделать как живописец, но я чувствую и понимаю живопись и скульптуру также. Часто я сам себе говорю, смотря на картину: «Господи, если бы я мог это сделать... насколько бы я еще лучше сделал».
Музыка одна для меня недоступна; это великолепный рай, который я вижу издали, который я отгадываю и вокруг которого я хожу - но не могу взойти в него...»
Тем не менее Толстой живет музыкой, мелодии и ритмы звучат в его душе, облекаясь в слова, и рождаются стихи, пластичность которых будет неудержимо привлекать внимание композиторов.
Сколько было написано им стихотворений в сороковые годы прошлого столетия, о том не дано знать никому. Известно лишь, что уничтожал он их сотнями и сразу и много лет спустя. И все-таки он еще долго будет раздумывать, вправе ли он предлагать свои стихи читателю, настоящий ли он поэт?
Но и сохранившиеся стихи Толстой неоднократно переделывал, прежде чем отдать их в печать.
Откуда эта придирчивость к себе? Да и вообще, что мы знаем о тридцатилетнем Алексее Толстом? Только то, что он по летам своим человек зрелый, что у него представительная внешность, могучее сложение, покладистый характер, что он щепетильно честен и перед собой, и перед людьми, которые называют это качество благородством. Но мало кто догадывается, что за внешним лоском и умением говорить умно и занятно, за автоматизмом поведения, выработанным воспитанием и привычкой, скрывается юношеская мечтательность, неуверенность в своих силах и невероятная застенчивость.
Да, он мечтатель. Мечтатель запойный, наделенный необузданным воображением, которого он стыдится, потому что в этой мечтательности есть что-то беззащитно-детское, несерьезное, неприличное в конце концов. Ну право же, достойно ли взрослого человека представлять себя великим музыкантом, внезапно, чудесным образом получающим замечательный дар импровизации и своей игрой на скрипке способным по желанию заставлять толпы людей плакать или смеяться? Или вот, он живописец, с легкостью создающий полотна, которые превосходят все созданное искусством всех времен и народов и завораживают те же толпы, не устающие повторять его имя. Воображал он себя и героем, совершающим чудеса храбрости на полях былых битв...
Странно это для человека зрелого, невероятно сильного, не раз испытывавшего свою храбрость на охоте, когда брал на рогатину матерых медведей... Но, пожалуй, это была единственная отдушина в той в общем-то монотонной жизни, в той «спокойной» эпохе, на которую пришлась его жизнь. Мечтал он и о встрече с необыкновенной женщиной, о необыкновенной любви, давая волю воображению, рисовавшему необыкновенные приключения...
Была ли такая мечтательность творческой? И да и нет. Он осознавал детскость этой игры, но не мог противостоять ее увлекательности, прорывавшейся и в стихи. Он рвал исписанные листки и читал Пушкина и Лермонтова, находя в их творениях - фантазию, обузданную философским смыслом и вложенную в тщательно обдуманные рамки. Он начинал понимать, что стихотворение сродни любому прекрасному зданию, в котором фантазия архитектора сочетается с точнейшим расчетом, и что в этом расчете и рождаются пропорции - непременное условие красоты. То, что жило в нем стихийно, постепенно приобретало порядок, но рационалистичность не гасила воображения. Как долго совершался этот процесс, трудно определить по позднейшим намекам в его письмах. Толстой пробовал себя в «Упыре», он проделывал немало опытов, прежде чем обрел острое литературное чутье, позволяющее сразу же ощущать, удалось ли написанное. С годами это чутье обостряется, писать становится из-за собственной придирчивости не легче, а труднее.
К счастью, рационализм не заглушил фантазии Толстого, вдохновение не стало редким гостем, а внутренний цензор не сковывал руку...
Не раз говорилось о том, что Алексей Константинович Толстой всю жизнь оставался романтиком. У него жизнь и поэзия - всегда одно. Романтичны и «Цыганские песни», лучшее произведение начального периода творчества Толстого.
Из Индии дальней
На Русь прилетев,
Со степью печальной
Их свыкся напев...
Не знаю, оттуда ль
Их нега звучит,
Но русская удаль
В них бьет и кипит;
В них голос природы,
В них гнева язык,
В них детские годы,
В них радости крик...
И грозный шум сечи,
И шепот струи,
И тихие речи,
Маруся, твои!
Маруся, Мария... К этому имени есть обращение и в другом стихотворении. Кто она? Какие отношения связывали ее с Алексеем Толстым? А может быть, это еще одно бесплотное порождение поэтических мечтаний?
Один старинный дом
И липы вековые
Над дремлющим прудом?..
Нет, Мария, юная, милая Мария Львова была. И был старинный обветшавший дом в имении князей Львовых в подмосковной усадьбе Спас-Телешово, где висели потемневшие портреты предков, считавших свой род от Рюрика. Из рам чопорно глядели бородатые бояре, служившие при царе Алексее Михайловиче, и вельможи в белых париках, презиравшие Бирона и сложившие за это головы на плахе.
Пятнадцатилетняя Мария была кузиной Алексея Толстого, дочерью одной из многочисленных сестер его матери. Ее отец, князь Львов, считал себя литератором и служил цензором, но впоследствии был отстранен от должности личным распоряжением Николая I за пропуск отдельного издания «Записок охотника» И. С. Тургенева. На его петербургской даче в Лесном корпусе часто гостили юные Жемчужниковы, двоюродные братья Алексея Толстого. И сам он часто бывал там. В 1848 году он провел несколько дней в Спас-Телешове, бродил с кузиной по безмолвным аллеям старого заглохшего сада, спускавшегося к реке, за которой золотились поля. Все это запечатлелось в целомудренных стихах Толстого и вспоминалось потом, когда Мария вышла замуж за С. С. Волкова, предводителя дворянства Клинского уезда. Толстой переписывался с ней, делился с Марией Владимировной своими мыслями и планами, а году в 1860-м спрашивал:
«Что дорожка? Произведение рук человеческих, а я всегда вспоминаю с удовольствием, как мы раз удрали в лес и поздно вечером вернулись домой, никем не примеченные».
Невинные прогулки уже через год вспоминались тепло и даже с сожалением о том, что могло быть и не было.
И роща, где впервые
Бродили мы одни?
Ты помнишь ли, Мария,
Утраченные дни?
В сохранившихся стихах сороковых годов Толстой вновь и вновь возвращается к теме (как ее принято теперь называть) «малой родины». Старинная усадьба, деревня, природа - вот к чему обращены его чувства. Все остальное - Петербург, высший свет, служба, заграничные впечатления - никак не отражается в его творчестве. Ему слышится призывный благовест колоколов пятиглавых сельских храмов...
К себе он тянет
Неодолимо,
Зовет и манит
Он в край родимый,
В край благодатный,
Забытый мною, -
И, непонятной
Томим тоскою,
Молюсь и каюсь я,
И плачу снова,
И отрекаюсь я
От дела злого;
Далеко странствуя
Мечтой чудесною,
Через пространства я
Лечу небесные...
«Дело злое» могло быть и поэтическим преувеличением, а могло и относиться к бездушию государственного механизма, в котором его вращала, как и все другие колеса, жестокая регламентация. Он бежит - иногда въявь, иногда в мечте - в край своего детства, в край предков, где среди степей спокойно катятся реки, а над золотистыми нивами видны дымки дальних деревень... Пейзажи в то время он выписывал скупо и точно. Но по большей части его стихотворения пронизаны грустным настроением, какое бывает у одинокого человека в осеннюю пору, когда он, вглядываясь через окно в мокрый унылый сад, слушает, как барабанит по крыше дождь.
Подсмотренные картинки деревенской жизни и те служат ему лишь фоном для передачи своего настроения. Иной раз он ловит себя на том, что какая-нибудь сказанная им фраза и обстановка, в которой она произнесена, - все это уже было с ним когда-то. Это ощущение, знакомое почти каждому и объясненное психологией, в поэзии появилось впервые у Алексея Толстого в стихотворении «По гребле неровной и тряской...», где с падающим сердцем он вдруг чувствует такое повторение.
...Так точно ступала лошадка,
Такие ж тащила мешки,
Такие ж у мельницы шаткой
Сидели в траве мужики...
Уже в сороковые годы Алексей Толстой, несмотря на замеченную им впоследствии подражательность некоторых своих ранних стихов, обещал стать поэтом самобытным, способным музыкально передавать интимнейшие чувствования и переживания. Настроение тогда его было не сплошь элегично. Во все времена ему отрадно в Красном Роге,
Где гнутся над омутом лозы,
Где летнее солнце печет,
Летают и пляшут стрекозы,
Веселый ведут хоровод.
Очевидно, в одну из поездок на родину (Петербург, где родился Толстой, он своей родиной не считал) было задумано знаменитое стихотворение «Ты знаешь край, где все обильем дышит». Тогда Толстой объездил весь край, где некогда главенствовал его прадед, последний украинский гетман Кирила Григорьевич Разумовский. Побывал он и в Почепе и в Батурине - гетманских резиденциях. Он увидел Батурин совершенно запустелым. Покривившись, стоял деревянный одноэтажный дом, в котором Разумовский провел последний год жизни в окружении многочисленной челяди, сутками сиживая за ломберным столом. Только раз прокатили в кресле больного гетмана в каменный дворец, который он распорядился построить на высоком берегу Сейма. Теперь дворец разваливался, из стен росли деревья, в заросшем бурьяном дворе пасся вол. Разумовского похоронили в церкви. Толстой увидел там памятник, сотворенный каким-то льстивым скульптором из темно-серого гранита и белого мрамора, с урной и барельефным аристократическим профилем, хотя в действительности гетман тонкостью черт лица не отличался...
Все здесь напоминало о бурном веке Елизаветы и Екатерины, о необыкновенных судьбах простых казаков Алексея и Кирилы Разумовских.
Посещением Батурина навеяны строфы:
Ты знаешь край, где Сейм печально воды
Меж берегов осиротелых льет,
Над ним дворца разрушенные своды,
Густой травой давно заросший вход,
Над дверью щит с гетманской булавою?..
Туда, туда стремлюся я душою!
Ты знаешь дом, где, враг презренной лести,
Родной земле отдав остаток сил,
Последний гетман жизни, полной чести,
Златой закат спокойно проводил?
Ты знаешь дом и липы над горою?
Туда, туда стремлюся я душою!
Алексей Толстой несколько идеализировал своего предка, и, когда пришло время публиковать стихотворение, он и сам понял это и вместе с некоторыми другими строфами выбросил последнюю...
Не раз возвращается Толстой в те годы к теме заброшенных дворянских гнезд, где в прошлом столетии кипела жизнь, а ныне все являет собой развал и запустенье. Ему кажется, что патриархальная старина, когда крупные помещики сами занимались хозяйством и чинили суд и расправу над крестьянами, лучше нынешних времен с их мотовством, забвением вотчин, которые передоверены управляющим. Толстой в стихотворении «Пустой дом» обвиняет своих светских знакомых, свою родню, не щадя и себя самого:
В блестящей столице иные из них
С ничтожной смешались толпой;
Поветрие моды умчало других
Из родины в мир им чужой.
Там русский от русского края отвык,
Забыл свою веру, забыл свой язык!
Крестьян его бедных наемник гнетет,
Он властвует ими один;
Его не путают роптанья сирот...
Услышит ли их господин?
А если услышит - рукою махнет...
Забыли потомки свой доблестный род!..
И здесь уже можно усмотреть зародыш того социального мотива, который с такой силой прозвучит в «Забытой деревне» Некрасова.
Антикрепостнические взгляды Толстого известны достаточно хорошо из его стихотворений и писем. Меньшего внимания удостаивается его баллада «Богатырь», написанная в конце сороковых годов.
Сколько раз в своих поездках по России и особенно по западным ее губерниям он видел безобразные сцены у кабаков, видел, как спиваются целые деревни, губятся судьбы человеческие... И постепенно у него складывается образ этакого «богатыря», разъезжающего по Руси на разбитой кляче, покрытого дырявой рогожей и со штофом в руке. И где бы он ни появлялся, «ссоры, болезни и голод плетутся за клячей его». Зловещий всадник тянет в кабак всякого, кто уже вкушал злого зелья. «В кабак, до последней рубахи, добро мужика снесено». Толстой рассказывает о пьяных драках, о заброшенных нивах, о талантливом художнике, пристрастившемся к водке и забывшем кисть, о преступности, порождаемой пьянством, о молодом человеке, полном желания заняться наукой и в городе от голодухи прельстившемся водкой... «И вот потонули в сивухе родные святые мечты!»
Стучат и расходятся чарки,
Рекою бунтует вино,
Уносит деревни и села
И Русь затопляет оно.
Дерутся и режутся братья,
И мать дочерей продает,
Плач, песни, и вой, и проклятья -
Питейное дело растет...
Да, размах «питейного дела» в России ему знаком превосходно. Он знает разговоры о вреде водки, которые то и дело ведутся во дворце, но знает он, что это сплошное лицемерие, так как страна находится в постоянном финансовом кризисе. Недалекий Николай I целиком доверяет выходцу из Германии министру финансов Канкрину.
Верный слуга царю, Канкрин тормозил строительство железных дорог, покрывал ежегодный дефицит выпуском бумажных денег, хотя Россия кормила своим хлебом едва ли не половину Европы. Это он завел винные откупа, давая возможность наживаться на спаивании народа откупщикам Утину, барону Гинзбургу, Бенардаки, Горфункелю и им подобным.
- Я знаю, что дело нечистое, да денежки чистые, - говаривал Канкрин, перефразируя римского императора Веспасиана, который, взимая налог с отхожих мест, утверждал, что деньги не пахнут. Тот же Канкрин хвастался перед военным министром Чернышевым: «А у меня, батушка, кабаков больше, чем у вас батальонов!»
А всадник на кляче не дремлет,
Он едет и свищет в кулак;
Где кляча ударит копытом,
Там тотчас стоит и кабак.
Это было обвинение, брошенное Толстым в лицо николаевским сановникам, которые в сотрудничестве с представителями крупной буржуазии спаивали народ. Казенная монополия на производство и продажу «орленых штофов» объяснялась финансовой «необходимостью». Запрет на водку лишил бы двор возможности делать многие бессмысленные расходы, лишил бы наживы откупщиков и их многочисленных родственников-кабатчиков, о которых Толстой сказал, что они «богатеют, жиреют» по мере того, как «беднеет, худеет народ». Ту же политику проводил и преемник Канкрина, рекомендованный им после ухода в отставку новый министр Вронченко. Весьма невзрачный, но невероятно хитрый, Вронченко на одном из первых же докладов в присутствии всех других министров, сделав вид, что страшно испугался вошедшего Николая I, выронил портфель, и все бумаги разлетелись по полу. Когда все захохотали, царь строго сказал: «Тут нет ничего смешного!» - и первого принял нового министра финансов. Император любил отличать тех, кто его боялся, и вскоре сделал Вронченко графом.
Двоюродный брат Алексея Толстого художник Лев Жемчужников в своей записке «Император Николай I и характеристика этой личности» писал: «Незабвенный» император Николай I, вступивший на престол при громе пушек и при громе пушек сошедший в могилу, наследовал безумие отца, мстительность и лицемерность своей бабушки. Он совмещал в себе качества противоположные: рыцарство и вероломство, храбрость и трусость, ум и недомыслие, великодушие и злопамятность. Царствовал он тридцать лет и, думая осчастливить Россию, разорил и унизил ее значение».
В записке, написанной на рубеже XIX и XX веков, прямо указывается, что многие сведения о характере и поступках Николая I почерпнуты из рассказов А. К. Толстого.
Царь всячески подчеркивал свою скромность. Спал на походной кровати, стоявшей в скромном помещении, главным украшением которого был большой бюст графа Бенкендорфа.
И хотя в тревожные для царизма дни 1848 года царь, обращаясь к петербургским дворянам, воскликнул: «Господа! У меня полиции нет, я не люблю ее: вы моя полиция...», он свято чтил память Александра Христофоровича Бенкендорфа, шефа жандармов, задумавшего зловещее III Отделение сразу же после декабрьских событий 1825 года и писавшего в своем проекте:
«Для того чтобы полиция была хороша и обнимала все пункты империи, необходимо, чтобы она подчинялась системе строгой централизации, чтобы ее боялись и уважали и чтобы уважение это было внушено нравственными качествами ее главного начальника».
Он предлагал царю на этот пост себя. Зная природу нелучшей части человечества, Бенкендорф предлагал начальнику тайной полиции сделаться фигурой явной.
«Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут по крайней мере знать, куда им обратиться».
Алексей Толстой едва ли не первый в России осмелится показать в литературе «лазоревых полковников», но это потом, а пока он лишь превосходно осведомлен, что существует еще одна тайная полиция, подчиняющаяся его родному дяде, министру внутренних дел Льву Алексеевичу Перовскому и выследившая петрашевцев. Император был весьма доволен соперничеством параллельных сысков, обеспечивавших относительную безопасность, хотя, по его словам, «возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие... разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею по мере уступчивости правительств», теперь угрожают «в безумии своем и нашей богом вверенной России».
Казалось бы, внешних перемен при царском дворе нет. По-прежнему царя можно встретить днем на Невском, по-прежнему он бывает в русском и французском театрах, не пропускает маскарадов в Большом театре и Дворянском собрании, где ходит по залам, громадный, всеми узнаваемый, с какой-нибудь стройной маской под руку, но делающий вид, что не замечает почтительных поклонов. По-прежнему задаются балы и маскарады в Зимнем дворце, устраиваются спектакли и музыкальные вечера, на которых к оркестрантам-итальянцам иногда присоединяется император, недурно играющий на флейте. Чаще балы и вечера бывают в Аничковом дворце, где живет наследник Александр, женатый с 1841 года на дочери великого герцога Гессен-Дармштадтского, которая из принцессы Максимилианы-Вильгельмины-Августы-Софьи-Марии после православного миропомазания превратилась в великую княгиню Марию Александровну.
Здесь-то и бывает чаще всего по долгу службы Алексей Толстой. И он ощущает тщательно скрываемую тревогу царской семьи. Порой она прорывалась в таких сценах: наследник произнес патриотический спич перед офицерами по поводу частичной мобилизации, и те по обыкновению крикнули «ура!», а цесаревна, услышав крик, бросилась к супругу в полной уверенности, что его уже убивают...
С вестью о парижской революции 1848 года в петербургских кофейнях было не протолкнуться среди людей, листавших газеты. Симпатии даже в высшем обществе были на стороне парижан.
Революция на Западе отразилась в России духовным гнетом. Началось «мрачное семилетие», продолжавшееся до самой смерти Николая I. Особый «бутурлинский» комитет обследовал содержание журналов и действия цензуры. Бутурлин поговаривал о запрещении Евангелия за его демократический дух, а формулу Уварова «православие, самодержавие, народность» объявил революционным лозунгом. Сам Уваров был замещен на посту министра просвещения Ширинским-Шихматовым, который, как каламбурили современники, объявил русскому просвещению шах и мат.
Многие издания были закрыты, остальные утратили определенность направлений, потеряли лицо. Комитет считал литературу «скользким поприщем» и выискивал крамолу между строк. Журнал «Современник» был обвинен едва ли не в проповеди коммунизма и революции.
- Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя, - сказал Николай I по поводу одной из журнальных статей.
Алексей Толстой в журналах не печатался, но читал их. На его глазах разгоралась полемика, которая отражала, как писали в отчетах III Отделения, «беспрерывно тлеющую мысль о свободе крестьян». Демократически настроенное дворянство западной ориентировки сражалось со славянофилами, идеализировавшими допетровскую Русь, верившими в сельскую общину и считавшими, что у России особый, самобытный путь исторического развития. Антикрепостниками были и те и другие. На глазах Толстого расправились с петрашевцами и Кирилло-Мефодиевским братством, которым занимался, кстати, наследник. (По этому делу проходили и Шевченко с Костомаровым.) Но Толстой ничего не мог поделать, хотя и сочувствовал Шевченко, о чем говорит приписка к одному из его писем того времени: «Шевченко вовсе не умер и не убит. У меня перед глазами вид Аральского моря, сделанный им. Он здравствует и будет, вероятно, скоро представлен к повышению, поелику начальство им довольно». Вскоре Толстой будет хлопотать об облегчении участи и освобождении отданного в солдатчину поэта.
На глазах Толстого зарождалась «натуральная» школа. Только она, перераставшая в крепкий русский критический реализм, и проявляла себя в «мрачное семилетие» вопреки цензуре...
Журнальная полемика не вызывала у Толстого особенного желания стать на ту или иную сторону, потому что у него была своя точка зрения на все, и он охотно соглашался с тем, что считал разумным, и отвергал крайности. Ему нравились некоторые идеи славянофилов, и не без их влияния были написаны в сороковые годы замечательные стихотворения «Колокольчики мои, цветики степные!..» и «Ой стоги, стоги...», в которых Толстой воспевал Россию как единственную силу, способную защитить и объединить разрозненное славянство. Мессианская роль России представлялась ему в романтическом свете. Славянский конь, «дикий, непокорный», не воспитанный «ученым ездоком», чем-то напоминает у Толстого гоголевскую тройку.
Есть нам, конь, с тобой простор!
Мир забывши тесный,
Мы летим во весь опор
К дели неизвестной.
И хотя путь этот чреват многими опасностями и бедствиями, Толстой предвидит торжество объединения и неодолимость славянства, но когда это будет? Мечта так далека от действительности...
Громче звон колоколов,
Гусли раздаются,
Гости сели вкруг столов,
Мед и брага льются,
Шум летит на дальний юг
К турке и к венгерцу -
И ковшей славянских звук
Немцам не по сердцу!
Гой вы, цветики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем грустите вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?
Обо всех своих пристрастиях Толстой выскажется позже, но, видимо, он думал над словами Гоголя:
«Все эти славянисты и европисты, - или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажутся карикатурами на то, чем хотят быть, - все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу».
Гоголь считал, что с обеих сторон «наговаривается много дичи», что ни те, ни другие не могут увидеть и понять «строение» - основу народной жизни.
С Гоголем Толстого связывало многое. Очевидно, встречаясь, они говорили и об отечественной истории.
Когда Алексей Толстой увлекся историей? Карамзиным он зачитывался едва ли не с тех пор, как научился бегло читать. Кратковременная служба в архиве и личное знакомство (по рекомендации А.А. Перовского) с Погодиным еще больше приохотили Толстого к историческим занятиям.
- Ни одна история не заключает в себе столько чудесного, как российская! - восклицал Погодин, и Алексей Толстой вполне разделял восторги маститого ученого, выказывая в разговорах с ним отменную начитанность.
Да и кто из литераторов в те годы не проявлял интереса к истории! Во времена, для духовной жизни удушливые, обращение к истории своего народа помогало осмысливать современные явления. Славянофилы и западники сражались, побивая друг друга историческими концепциями и фактами, а речь шла, в сущности, о будущем...
Но, как и у Гоголя, у Толстого было слишком развито воображение, чтобы воспринимать историю рационалистически. Всякий эпизод при чтении мгновенно сцеплялся с другим, художническое видение тотчас рождало эффект присутствия, фантазия заполняла пробелы и творила недостающие подробности, а найти форму и слова было уже делом таланта и навыка... Когда эмоции сталкивались с хронологией, она частенько бывала вынуждена отступать, но это не наносило ущерба историческим балладам, которые писал в то время Алексей Толстой.
Порой пером двигало влияние мощного таланта какого-либо из предшественников, как в «Кургане», шесть строф которого Толстой вычеркнул, почувствовав, что по строю своему они напоминают «Волшебный корабль» в переводе Лермонтова.
«Курган» - это подступ к исторической теме, романтический уход в далекое прошлое родины, где Толстой будет искать все то, чего ему не хватало в повседневной жизни, - деятельности, подвигов, общения с сильными личностями. Российская история разрушительным временем отрублена от своих корней, письменные источники уничтожены - лишь немые курганы остались свидетелями того, что совершалось в эпохи, предшествовавшие тысячелетней писаной истории. И естественно это обращение Толстого к таинственным следам деятельности наших предков, в которой не могут, а порой и не желают разобраться историки. Остается острое любопытство и множество вопросов.
А витязя славное имя
До наших времен не дошло...
Кто был он? венцами какими
Свое он украсил чело?
Чью кровь проливал он рекою?
Какие он жег города?
И смертью погиб он какою?
И в землю опущен когда?
Безмолвен курган одинокий...
Наездник державный забыт,
И тризны в пустыне широкой
Никто уж ему не свершит!
Толстой верит в неотделимость прошлого от настоящего, в единство корней и растущего древа, в зависимость будущности от любого деяния в прошлом: добро откликнется добром, зло - злом. Люди честные, подвижники - это факелы, горящие во мраке, и свет их брезжит сквозь туман лжи, искажений истории. «Жизнь ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не пропадает, - напишет он вскоре, обращаясь к читателям «Князя Серебряного» и размышляя о прошлом, - и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минувшего».
Не только исторические источники, но и древнерусская словесность были внимательно изучены Толстым. Былины, сказки, «Слово о полку Игореве» завораживали своим поэтическим строем, краткостью и емкостью сочетаний слов. И тут уж забыт Жуковский с его «ужасными» балладами.
Порой воображение будила одна лишь строка из «Слова о полку Игореве», и он берет ее в качестве эпиграфа для баллады: «Уношу князю Ростиславу затвори Днепр темне березе». (В тогдашних изданиях текст «Слова» публиковался в искаженном виде.) И эта баллада о переславльском князе Ростиславе, утонувшем после битвы с половцами в реке Стугне, была последней данью заемному романтизму, «русалочьему» антуражу.
Баллады «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин», «Ночь перед приступом» берут свое начало в чтении «Истории государства Российского» Карамзина, в «Сказаниях князя Курбского», в писаниях Авраамия Палицына... Анахронизмы, или, как их называл Толстой, «отступления в подробностях», нисколько не вредили потом воздействию их на любого читателя, как бы он ни был искушен в изучении исторических источников.
Так, в «Василии Шибанове» бегство Курбского переносится в более позднее время, когда уже существовала опричнина. Царь Иван Грозный у Толстого совершает свои молебствия не в Александровской слободе, а в центре Москвы, на глазах у всего народа. Карамзинский рассказ обрастает в балладе подробностями, созданными воображением Толстого, и теперь они кажутся неотъемлемыми от исторических фактов, настолько психологически убедительно рисуется характер Василия Шибанова.
«Князь Курбский от царского гнева бежал» и с ним его верный стремянный. Под дородным князем падает конь, и Шибанов отдает ему своего. Этого нет у Карамзина. Но что с того? Верна психологически картина, рисующая не менее злобного и мстительного, чем царь, Курбского, который спешит уязвить своего бывшего владыку и ничтоже сумняшеся шлет с письмом к нему на муку своего верного слугу. У Карамзина изменник Курбский спешит «открыть душу свою, исполненную горести и негодования».
Шибанов, хотя и следующий за своим князем, у Толстого и в мысли не держит измену родине. «Вишь, наши меня не догнали», - говорит он. Внешне очень эффектна сцена, когда царь читает послание Курбского, вонзив в ногу Шибанова острый конец своего жезла. Карамзин умиляется верности Шибанова. Толстой потрясен тем, что Курбский выдает своего верного друга и слугу, по словам царя, «за бесценок». Под пытками Шибанов не остается у Толстого тупым, по-собачьи преданным исполнителем воли своего господина. Шибанов славит его, но как:
О князь, ты, который предать меня мог
За сладостный миг укоризны,
О князь, я молю, да простит тебе бог
Измену твою пред отчизной!
В балладе промелькнуло выражение «опрични кромешная тьма», и тут же короткие и меткие характеристики опричников, характеристики, которым еще предстоит вырасти в характеры: Вяземский лютый, Васька Грязной, Малюта Скуратов и гордящийся своею красой, «с девичьей улыбкой, с змеиной душой» любимец царя Басманов.
Толстой знал, что слова «опричь» и «кроме» синонимы. Современники часто называли опричников «кромешниками» - служителями ада, вечного мрака, сатаны, намекая на совершенно иное значение слова, чем то, которое подразумевал царь, деля страну на земщину и опричнину. Но тавтологии не чувствуется, поскольку до XIX века дошло лишь выражение «кромешная тьма», требующее особого разъяснения.
Адом представляется Толстому царствование Ивана IV. Отныне он будет клеймить тиранию во всех ее проявлениях.
Из глубины веков дошли дворянские легенды о Шибанове, на самом деле схваченном, подвергнутом пыткам, но так и не вручившем царю письма. Придумана была и версия о гибели на пиру князя Репнина, «победоносного воеводы», на которого царь пытался надеть потешную маску. Иван IV приказал за отказ принять участие в шутовстве вытолкать боярина взашей. Потом его убили на улице. В балладе «Князь Михайло Репнин» Толстого боярин гибнет на пиру, опять же «жезлом пронзенный», пожелав перед смертью гибели опричнине, которая в это время еще не существовала, и славя православного царя. В народных песнях царь Иван зовется Грозным. В них он величествен и справедлив. Как это ни странно, тираны часто оставляют о себе в народе хорошую память.
Не будем вдаваться в споры историков о правомерности тех или иных способов утверждения русской государственности и об остающейся загадочной до сих пор причине возникновения и сущности опричнины. Толстого интересовала лишь моральная сторона поступков людей. Герои его баллад были лишь поэтическими символами. В «Князе Михаиле Репнине» он отстаивает человеческое достоинство. Лучше гибель, чем унижение.
Одно несомненно для Толстого - родину, Русь, надо защищать до последней капли крови, какими бы ужасными ни были внутренние обстоятельства, связанные с деспотизмом ее правителей или смутными временами. Он пишет балладу «Ночь перед приступом» об осаде Троице-Сергиевой лавры войсками Сапеги и Лисовского во время польской интервенции. Шестнадцать месяцев, с осени 1608 года, отбивали все штурмы защитники крепости, которая за все время своего существования никогда не бывала в руках врага. Из этого монастыря вышли Ослябя и Пересвет - герои Куликовской битвы, а вскоре во все концы Русской земли оттуда полетят послания с призывом идти на врагов, и после чтения одного из них скажет свое слово нижегородец Козьма Минин.
Все больше и больше Толстого влечет к Смутному времени и эпохе, предшествовавшей ему. По некоторым сведениям, у него уже в конце сороковых годов были наброски романа «Князь Серебряный» и даже план будущей драматической трилогии.
Карамзин пробудил интерес русской публики к собственной истории. Томики его «Истории государства Российского» издавались неоднократно и проглатывались читателями, чьи патриотические чувства были обострены героическими событиями 1812 года. Но если не считать «Бориса Годунова» Пушкина и еще нескольких произведений, основной поток исторических сочинений, низринувшийся в типографии и на театральные подмостки, не отличался художественными достоинствами. Патетика не могла быть заменой подлинных знаний и чувств, психологизма.
По-видимому, Толстой уже был лично знаком с Тургеневым и соглашался с его мнением, высказанным в рецензии на неудачную драму Гедеонова «Смерть Ляпунова» в 1846 году и не раз потом повторяемым в беседах:
- Кто нам доставит наслаждение поглядеть на нашу древнюю Русь? Неужели не явится, наконец, талант, который покажет русских живых людей, говорящих русским языком... Да, русская старина нам дорога... Мы все ее любим не фантастическою вычурною старческою любовью; мы изучаем ее в связи с действительностью, с нашим настоящим, которое совсем не так оторвано от нашего прошедшего.
Золотые слова! Сказанные походя, они выражали суть нового отношения к истории, которая для многих оставалась складом пыльных реликвий и лишь для некоторых - неисчерпаемым источником уроков на будущее, учительницей жизни, по словам Цицерона, поводом для выражения собственных чувств, весьма далеких от событий многовековой давности...
Есть прямая преемственность у пушкинской концовки «Бориса Годунова» и эпиграфа, который взял Алексей Толстой из Тацита для своего «Князя Серебряного»:
«А тут рабское терпенье и такое количество пролитой дома крови утомляет душу и сжимает ее печалью. И я не стал бы просить у читателей в свое оправдание ничего другого, кроме позволения не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих».
Ненавидя «насилие и гнет», Толстой возмущался не тиранами, нет, он возмущался тем, что люди терпели и терпят деспотизм, подставляя шеи под топоры палачей, погибая тысячами, но не восставая, не сопротивляясь изуверской жажде уничтожения человеческих жизней. Но принесет ли бунт справедливость? Не станет ли он обыкновенной местью, пролитием еще большей крови и в конце концов средством для возвышения людей еще более жестоких, чем те, против которых бунт поднимался? Опасение это звучит и в словах, которыми Пушкин завершил главу, не включенную в «Капитанскую дочку» по цензурным соображениям: «Не приведи бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка - полушка, да и своя шейка - копейка».
Но не надо забывать, что Толстой по своим воззрениям был сторонником просвещенной монархии, а следовательно, в тех условиях либералом, которому претил очевидный радикализм, однако трудно было не признавать, что французская революция, чем бы она ни кончилась, крестьянские восстания в России, выступление декабристов привели если не к коренным, то весьма заметным изменениям в политических нравах. Страх перед народным возмущением смягчил их. Массовые казни были редки. Наступило царство бюрократии, в дебрях которой перемалывались человеческие эмоции.
Толстой принадлежал к тем дворянам, которые с отвращением относились к крепостному праву, телесным наказаниям, деятельности III Отделения и не могли простить Николаю I пяти повешенных декабристов, но рисковали в своем неприятии действительности очень малым, разве что увольнением, отстранением от государственной службы, а это богатому графу казалось благодеянием, мечтой, разбивающейся о непреклонность влиятельных родственников.
Власти предержащие подозрительно относились к занятиям историей, выходящим за жесткие рамки официальных установок. Цензоры внимательно следили за тем, чтобы у читателя не возникало никаких ассоциаций, намеков на действительность. А так как никому не дано распрямить спираль истории, то уход в нее уже сам по себе - протест...
...Молодой боярин князь Никита Серебряный с отрядом ратников и своих холопей едет в Москву из Литвы, где провел пять лет, ведя неудачные (из-за бесхитростности князя) дипломатические переговоры и показав несомненную храбрость в боевых схватках, когда переговоры сорвались. С первых же страниц романа перед читателем возникает добрый и простодушный человек, верный и самоотверженный. Как выразился дореволюционный критик М. Соколов, «глядя на этого чисто русского человека... вы чувствуете, что хорошо заодно с ним жить и действовать».
И как бы в согласии с пожеланиями Тургенева, на первых же страницах толстовского романа зазвучала сочная русская речь - она и в лирических излияниях, чуть-чуть приправленных старорусскими словами и оборотами. Подлинно народный язык на устах многочисленных персонажей романа и его героя - в разговорах со стремянным Михеичем (в этом образе Толстой, по-моему, не избежал невольного подражания Пушкину с его Савельичем из «Капитанской дочки») и с крестьянами подмосковной деревни, в которой остановился Серебряный перед въездом в столицу.
То было в давние времена, в XVI веке, когда, по мнению славянофилов, еще не было разделения русской нации на «два народа» и господствующий класс по языку, быту, обычаям мало отличался от крестьянской массы. Толстой верит в «патриархальную простоту» отношений бояр и дворян с крестьянами. Серебряный у него благородный рыцарь, одинаково справедливый во взаимоотношениях с людьми, стоящими на любой ступеньке общественной лестницы. Говоря о благородстве и рыцарстве, Толстой обычно вкладывал в эти слова лишь их этический смысл, внушенный поэзией трубадуров. Герой его романа словно бы родился в домонгольской Руси, которую Толстой идеализировал и считал близкой по духу рыцарскому Западу. Уже XVI век помнил лишь романтические предания. Да, вся Западная Европа усыпана мрачными замками, но их каменными стенами рыцари отгораживались от простого люда, с самого начала выступая в качестве предводителей разбойничьих шаек, чьи грабежи были узаконены, когда сложились государственные образования. Правда, на Руси нигде не встретишь каменных замков, жизнь русской помещичьей усадьбы исстари теснее сплетена с жизнью деревни, но это еще не повод для идеализации давно минувших времен.
Картина народного праздника, за которым наблюдает князь Серебряный в деревне, омрачена разбойничьим налетом опричников. Герой даже не знает этого слова, потому что весть о разделении Руси на земщину и опричнину будто бы не достигла Литвы. Это чисто литературная условность, каковых много в романе (включая анахронизмы, искажение расстояний между географическими пунктами), но Толстой идет на условности вполне сознательно, для ускорения действия, чтобы побыстрей вести героя по кругам ада, в который, по его представлению, ввергла страну опричнина...
Самое трудное для автора в произведении - начало, определяющее тональность всей вещи. Толстому хотелось, чтобы роман был эпическим, однако он очень быстро понял, что замахнулся слишком широко - склад его дарования несколько иной, да и знаний не хватало. Ему не приходило в голову, какие трудности предстоит преодолеть из-за упрямого желания следовать первоначальному замыслу...
Мы не можем проследить работы Алексея Толстого над «Князем Серебряным», поскольку варианты не сохранились, и вынуждены довольствоваться конечным результатом. Остается только отметить особенности романа и очертить круг событий и исторических личностей, к которым Алексей Толстой будет возвращаться потом в своих произведениях с удивительным постоянством.
Неизвестно, когда и как приступил Алексей Толстой к работе над романом «Князь Серебряный». По его словам, он старался забыть, что на свете существует цензура, и дал себе полную волю. Потом он иронизировал - хоть он романист, а не папа римский, но руководствовался заветом: делай как надлежит, и пусть будет что будет. Однако работа над романом затянулась на десятилетие с лишним, несмотря на сразу сложившийся план.
Столь длительная работа объясняется еще двумя обстоятельствами.
Во-первых, роман задуман был как народный и требовал подлинности языка. Толстой окунулся в стихию народной речи. Потребовалось изучить множество старинных источников и еще больше слушать, записывать живую крестьянскую речь самому...
Во-вторых, выявилась определенная наивность сюжетных ходов, связанных с проявлениями характера главного героя романа, в котором отразились как в зеркале все достоинства и недостатки жизненной позиции самого Толстого, его благородство и нежелание понимать многомерности мира. По-видимому, писатель порой не знал, повиноваться ли собственному плану - провести прямодушного молодого боярина князя Никиту Романовича Серебряного через жестокие испытания и оставить его верным себе в беспощадные времена, когда страх либо ломает человека и заставляет его приспосабливаться к жизненным условиям, либо делает его изменником, как Курбского. Однако рыцарю без страха и упрека, каким задуман был Серебряный, не годится ни тот, ни другой путь. Не способен он стать и бунтарем, отвечающим жестокостью на жестокость, льющим кровь как воду, так как в этом случае, по мнению Толстого, ни о каком благородстве не может быть и речи.
А ведь как хотелось бы, чтобы герой сохранил благородство, честность, прямодушие, верность, целомудрие среди крови, грязи, интриг, подлости, извращенности! Именно эта трудная задача и замедлила работу над романом, который впоследствии вызвал самые противоречивые отклики и до наших дней остается одной из самых популярных книг, взывающих к лучшим чувствам широкого, как говорят, читателя и особенно молодого, охочего до остросюжетной приключенческой литературы.
Эпического спокойствия сохранить не удалось. В романе взял верх лирик, порой откровенно, слишком откровенно высказывающий свое отношение к главным персонажам романа. Вот опричник Хомяк со «зверским» лицом и атаман разбойников Перстень, черты лица которого носили «отпечаток необыкновенного ума и сметливости, а взгляд обнаруживал человека, привыкшего повелевать».
Это два весьма характерных типа русских людей. Один готов служить любому злу, лишь бы получить какую-то власть, лишь бы позволили ему свирепствовать, издеваться над кем угодно безнаказанно. Второй мог бы проявить себя превосходно на любом поприще, но тесно ему на земле, скованной властью больших и малых господ, и он становится предводителем лесной вольницы, у которой своя жизнь, свой кодекс чести, свои широко разветвленные взаимоотношения с другими ватагами. Он плоть от плоти своего народа, лихого в драке, тороватого на шутку, самозабвенного в песне... Из таких выходили потом и покорители сибирских просторов. Недаром в эпилоге романа Ванька Перстень выступает уже как Иван Кольцо, один из главных соратников Ермака.
Немало страниц в романе посвящено русским песням. Как Толстой любит и знает песню, как прекрасно описывает певцов-ватажников! В лирических своих отступлениях он походя высказывает мысли, которыми независимо от него еще предстоит заняться самым мощным умам российской философии.
«Грустно и весело в тихую летнюю ночь, среди безмолвного леса, слушать размашистую русскую песню. Тут и тоска бесконечная, безнадежная, тут и сила непобедимая, тут и роковая печать судьбы, железное предназначение, одно из основных начал нашей народности, которым можно объяснить многое, что в русской жизни кажется непонятным».
Главная сюжетная линия романа - это любовь князя Серебряного и Елены, вышедшей замуж, пока он был на войне, за старого боярина Морозова, чтобы избежать притязаний опричника князя Вяземского... Из уст Морозова и узнает Серебряный о будто бы внезапном преображении Ивана IV, о гонениях и казнях бояр (история князя Репнина здесь уже близка к истинной), о каком-то страшном потрясении, после которого у царя вылезли все волосы и борода, об отъезде царя в Александровскую слободу, называемую простыми людьми в романе «неволей».
По-разному трактовались загадочные и кровавые события царствования Ивана Грозного, так и оставшиеся невыясненными из-за гибели архива опричнины, но для Толстого это прежде всего несносная тирания, полный произвол, который разлагает всю страну, сея жестокость, равнодушие к жизни человеческой.
Убивал сам царь, и кругом были виселицы и колы...
Царь любил выпускать зверей из клеток, чтобы драли народ. И опричник Басманов с друзьями выпустили медведя на князя Серебряного...
Читая источники, Алексей Толстой не верил, что изощренная жестокость может быть свойственна русским людям. Он забывал, что это качество не врожденное, что его воспитывают, что оно нужно кому-то для конечного ослабления народа. Он и представить себе не мог грядущие в самых разных углах земного шара массовые казни. Толстой был убежден, что такие нравы появились у нас как результат двухвекового ига и еще долго будут переходить «от поколения к поколению».
И он скажет:
«Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несет ответственность за свое царствование; не он один создал свой произвол, и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее в обязанность и в обычай. Эти возмутительные явления подготовлены предыдущими временами, и земля, упавшая так низко, что смогла смотреть на них без негодования, сама создала и усовершенствовала Иоанна, подобно тому как раболепные римляне времен упадка создавали Тивериев, Неронов и Калигул».
Уже одно это утверждение говорит о пристальном внимании Толстого к природе злоупотребления властью вообще, что раздвигает хронологические рамки романа вплоть до царствования Николая I. Нетрудно было бы усмотреть здесь и древний, явно циничный афоризм: каждый народ имеет такое правительство, которого он заслуживает. Но Алексея Толстого никак не обвинишь в цинизме. Слишком близко он принимает все к сердцу. Слишком серьезно он верит в то, что благородство отдельных личностей способно пробить брешь в круге зла. Они являются «как светлые звезды на безотрадном небе нашей русской ночи», однако они «бессильны разогнать мрак», потому что действуют в одиночку.
Пафос воспевания этого благородного одиночества очень ослаблял позиции Толстого-романиста, толкал в тупики сомнений, рождал неуверенность и неопределенность, которые чувствуются на многих страницах романа.
Приведя князя Серебряного на пир к царю и познакомив читателя с умным и коварным Иваном Грозным, с угрюмым палачом и другом царя Малютой Скуратовым, с приветливым и мудрым, старавшимся быть необходимым царю и не запачкаться в крови Борисом Годуновым, с Вяземским, Басмановыми и другими, Толстой ставит своего героя на грань между смертью и жизнью - спасают лишь правдивость и убедительная верность царю, который по капризу воли решил сыграть в справедливость.
Волей случая князь Серебряный попадает в тюрьму, откуда его выручает ватага Перстня. Увлекая за собой разбойную дружину, князь одерживает победы над татарами в рязанской земле. (Кстати, в том, что татарами командует «ширинский князь Шихмат», легко углядеть намек на «мрачное семилетие» и деятельность министра просвещения князя Ширинского-Шихматова.)
Но машина истребления, запущенная раз, требует все новых жертв. Гибнет боярин Морозов, гибнут и опричники Вяземский и Басмановы. В деспотическом государстве палачи начинают истреблять друг друга, как пауки в банке. Не может быть и личного счастья - когда Серебряный находит Елену, ушедшую после гибели мужа в монастырь, она говорит ему: «Не личила бы нам одним радость, когда вся земля терпит горе и скорбь великую!»
Показывая сомнения своего героя, которому приходит на память изменник Курбский, Толстой упрямо проводит мысль, что родина и государь не одно и то же. Государи смертны, а родина будет жить вечно, и ее надо беречь и защищать во имя ее грядущего расцвета. Отдает за нее жизнь и князь Серебряный.
«Родина ты моя, родина, - вырывается у Толстого. - Случалось и мне в позднюю осень проезжать по твоим просторам! Ровно ступал конь, отдыхая от слепней и дневного жару; теплый ветер разносил запах цветов и свежего сена, и так было мне сладко, и так было мне грустно, и так думалось о прошедшем, и так мечталось о будущем...»
Цепь приключений Серебряного, обусловленных случайностями, слишком прямолинейно трактует характер героя, в простодушии которого кроется такая примитивность мышления, что Толстому то и дело приходится прибегать к авторским отступлениям, а это, как и излишняя детализация старинного быта и обрядов, нарушает чистоту жанра.
Иные из авторских размышлений носят явно антидемократический характер и, безусловно, выражают классовые позиции Толстого. Хотя бы его рассуждение о сущности тирании - царь молится о том, чтобы ему дано было «окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он стоял один надо всеми, аки дуб в чистом поле!» То есть равенство на уровне всеобщей слабости и бедности представляется Толстому как предварительное условие окончательной победы зла, тирании, которая срезает все мало-мальски выдающееся над уровнем, дабы негде было угнездиться и самой мысли о непокорстве, поскольку люди, обремененные жизненными тяготами, поисками хлеба насущного, не могут будто бы дать отпор порабощению. Но, по мысли Толстого, такое равенство и невозможно: кто-то будет выше другого непременно, будет отстаивать свои привилегии, возбуждая тем самым на борьбу и других. В романе на молитву царя как бы отвечают звезды: «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час... не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор с пригорками, не бывать на земле безбоярщине!»
Увлечение Толстого эпохой Ивана Грозного было неотступным. Ее жестокость и сильные характеры, обилие событий и загадочность их - все это захватило надолго его, обделенного, как ему казалось, яркой жизнью.
Влияние Гоголя как исторического писателя на Алексея Толстого несомненно. Но он не обладал способностью Гоголя эпически воспарять над действительностью, передавать дух эпохи, правду поступков, не цепляясь за факты, и потому в прозе его возникала иллюстративность. Мысли его глубоки и тревожны, но воплощение их в прозе порой и самому ему казалось нарочитым, неорганичным. Пытаясь остаться поэтом, когда писал прозу, он терпел неудачи, терял чувство тонкой иронии, свойственной его стихам. «Князь Серебряный» был последней, затянувшейся попыткой одолеть жанр, не во всем вязавшийся с призванием Алексея Константиновича Толстого.