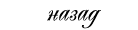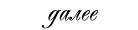Тютчев в воспоминаниях,
письмах современников и документах 1858-1865
Тютчев в воспоминаниях, письмах современников и документах 1858-1865
Тютчев - председатель Комитета иностранной цензуры * Славянский вопрос * Поэт в повседневной жизни * Цензор Никитенко * Орден с голубой лентой * Князь Горчаков, Тютчев и польский вопрос в 1863 г. * Совет по делам печати * Душевная драма поэта
<Из дневника А.В. Никитенко>
 11 <декабря 1857>. Четверг. Заседание в Академии наук. Председательствовал президент. Были выборы в почетные члены. Граф <Блудов> предложил очень много лиц, большею частью все чуждых Академии и науке. Сначала члены терпеливо клали белые шары, но потом терпение их истощилось, и, как всегда бывает в подобных случаях, потерпели достойные в пользу недостойных. Так, например, министр внутренних дел <С.С> Ланской выбран, а Тютчев и <П.П.> Мельников (инженер) не выбраны. Граф был недоволен и прекратил дальнейшие выборы из опасения новых поражений.
11 <декабря 1857>. Четверг. Заседание в Академии наук. Председательствовал президент. Были выборы в почетные члены. Граф <Блудов> предложил очень много лиц, большею частью все чуждых Академии и науке. Сначала члены терпеливо клали белые шары, но потом терпение их истощилось, и, как всегда бывает в подобных случаях, потерпели достойные в пользу недостойных. Так, например, министр внутренних дел <С.С> Ланской выбран, а Тютчев и <П.П.> Мельников (инженер) не выбраны. Граф был недоволен и прекратил дальнейшие выборы из опасения новых поражений.
Никитенко А.В. Дневник. Т. I. М., 1956, С. 464
<…> Эта необходимость стесняться образом жизни на дипломатической службе заставила его ее бросить, и продолжением его служебной карьеры оказалось то место председателя комитета иностранной цензуры, на котором он и остался до кончины и где одно время при Тютчеве было царство поэзии: Тютчев — председатель, а А.Н. Майков и Полонский — члены...
Князь Мещерский. Воспоминания.
М., 2001, С. 158-159
 <…> Центральный комитет иностранной цензуры находился тогда в доме Шольца на Обуховском проспекте, вблизи Сенной. Председательствовал в нем Ф. Тютчев. <…> Он прибыл к нам в отделение зимой в широко распахнутой енотовой шубе — всегдашняя манера его носить ее — и меховой шапке, из-под которой выбивались его длинные седые волосы, и с небрежно обмотанным вокруг шеи шерстяным шарфом. Выразительное лицо его с тонкими чертами и большим лбом, в очках, из-под которых выглядывали умные, но как бы утомленные глаза, которые невольно обращали на себя внимание и заставляли догадываться, что в старческом облике всей фигуры этого человека скрывается незаурядная натура.
<…> Центральный комитет иностранной цензуры находился тогда в доме Шольца на Обуховском проспекте, вблизи Сенной. Председательствовал в нем Ф. Тютчев. <…> Он прибыл к нам в отделение зимой в широко распахнутой енотовой шубе — всегдашняя манера его носить ее — и меховой шапке, из-под которой выбивались его длинные седые волосы, и с небрежно обмотанным вокруг шеи шерстяным шарфом. Выразительное лицо его с тонкими чертами и большим лбом, в очках, из-под которых выглядывали умные, но как бы утомленные глаза, которые невольно обращали на себя внимание и заставляли догадываться, что в старческом облике всей фигуры этого человека скрывается незаурядная натура.
Комитет был разделен на три отделения, которыми заведовали старшие цензора. Я попал в немецко-итальянское отделение, начальником которого был престарелый Есипов. Остальными двумя отделениями заведовали: французским и английским — Любовников, а бандерольным и польским с прочими славянскими наречиями — А. Майков. Кроме названных старших цензоров, были еще и младшие, между которыми разделялось чтение книг сообразно их знанию языков. Так, Полонский читал французские, английские и итальянские книги, Миллер-Красовский, прославившийся своей брошюрой о необходимости розги в школьном воспитании, исключительно немецкие, Дукшта-Дукшинский — польские, и был еще один такой цензор-полиглот, Шульц, который не затруднялся читать книги и разные другие издания на всех существующих языках. <…>
Касательно председательской должности, к месту будет заметить, что должность эта представляла в центральном комитете иностранной цензуры род синекуры и замещалась всегда лицами, имевшими связи и протекцию в высших сферах. Так попал на эту привилегированную должность Тютчев, дочь которого, фрейлина, играла такую видную роль при императрице Марии Александровне <…>
Егоров. Тютчев Ф.И. в документах, статьях и
воспоминаниях современников. М., 1999. С. 242—243
Д.И. Сушкова — Е.Ф. Тютчевой
<Москва.> 28 апреля/<10 мая> 1858 г.
Я рада, что Федор охотно занимается должностью (с 17 апреля — председатель центрального Комитета цензуры иностранной. — Ред.), — желательно, чтоб она ему не надоела.
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 295

Ф.И. Тютчев. Фотография С. Левицкого.
Петербург. 1856 г.
<…> В то время, как Тютчев назначен был председателем Комитета, это учреждение состояло еще при Министерстве народного просвещения, и только впоследствии, с передачей цензуры в ведомство Министерства внутренних дел, отошло к этому последнему. Тютчев заменил в Комитете слишком знаменитого и даже воспетого Пушкиным Красовского, который, в качестве председателя, тридцать лет сряду чудесил и куролесил в этой немаловажной, кажется, области управления... Тридцать лет почти полновластного над Русскою и Европейскою литературою беснования этого маньяка, одержимого свободобоязнью и какою-то гипертрофиею подозрительности, представляют, конечно, немалый интерес для патологической истории Русского общества, но вместе с тем и один из самых мрачных эпизодов в истории Русского просвещения. Можно себе представить, каким воздухом, с назначением Тютчева, повеяло от того учреждения, которое Красовский умел обратить в душный и смрадный вертеп; как ожили, как обрадовались все, кому были дороги ум и знание, — как благодарили они ту власть, которая вверила обязанность председателя такому европейски образованному и благородномыслящему человеку, каким был Тютчев. Это было тем более важно, что председатель Комитета иностранной цензуры, уже по самому званию, имел право голоса в совещаниях по делам цензуры отечественной... Около Тютчева сгруппировалось вскоре в Комитете несколько молодых людей из числа наших литераторов, между прочим известные поэты Полонский и Майков. <…>
Аксаков И.С. Биография Федора Ивановича Тютчева.
М., 1886. С. 274
<…> У Ф.И. Тютчева был один враг: враг этот была практическая жизнь. В практической жизни он был несведущ и неопытен как дитя. Небольшого роста, с походкою небрежною, переваливающейся, он внешним образом как будто выражал внутреннего человека; в этой внешней личности было что-то похожее на небрежность ко всему, что не было духовно, а было вещественно; самое его тело казалось ему тягостью, которую он осужден влачить. Находясь, по своему положению и связям, постоянно в высших слоях общества, он инстинктивно не умел проявлять в своих отношениях к людям какое бы то ни было, даже в оттенках, различие, если даже они по условиям общественного положения стояли и выше его. Он был тот же с подчиненными ему чиновниками иностранного цензурного ведомства, коего был начальником, как и с высшими государственными людьми, с которыми постоянно сходился. Во дворце он был также смиренен и так же скромен и переваливаясь прокрадывался между людьми, как в каждом доме частного человека, но в то же время также мало занят был и величием мира сего с его бесчисленными практическими сторонами. Везде и всякому он говорил то, что думал, и, несмотря на то, что стоял во главе обширного отдела цензуры, не любил стеснения мысли, чуть только она была искренна и сколько-нибудь благородна.
Князь Мещерский. Воспоминания.
М., 2001, С. 318
<…> Услышав его в первый раз, после всех странствий, заговорившего о славянском вопросе, я не верил ушам своим; я заслушался его, хоть этот вопрос давно уже сделался предметом моих занятий и коротко был мне знаком. Как в самом деле мог он, проведя молодость, половину жизни за границей, не имев почти сообщения со своими, среди враждебных элементов, живущий в чуждой атмосфере, где русского духа редко бывало слышно, как мог он, барич по происхождению, сибарит по привычке, ленивый и беспечный по природе, ощутить в такой степени, сохранить, развить в себе чистейшие русские и славянские начала и стремления? Этого мало: сблизившись с ним впоследствии больше, имев случаи познакомиться короче с его задушевными мыслями, услышав его мнения, я удостоверился, что никто в России не понимает так ясно, не убежден так твердо, не верит так искренно в ее всемирное, общечеловеческое призвание, как он. Многие имеют, может быть, мысли более или менее верные о разных предметах, сюда относящихся, но никому не представлялись они в таком цельном виде, так конкретно, употреблю модное выражение, как ему. Как это случилось — это принадлежит к числу удивительных явлений русской жизни и русской истории.
В последнее время возникшие на Западе религиозные распри подали ему повод выразить свои мысли о православии, и оказалось, что он, не занимавшись никогда этим предметом, не принимав, кажется, много к сердцу, уразумел его силу, его историческое значение, лучше, живее многих его законных служителей. <…>
Всем главным преобразованиям нынешнего царствования он сочувствовал от души и радовался всякому твердому шагу вперед, подавая свой пиитический голос. <…>
М.П. Погодин. Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 24-25
<…> В гостиной моей матери помню его, во фраке и с развязанным галстуком; прислонившись к камину, читал «Пошли, Господь, свою отраду...» и «Слезы людские...». Как удивительно он читал! Как просто, умно и волнующе. Тонкое, прямо жемчужное у него было произношение, все на концах выдвинутых вперед старческих губ. Как его встречали, когда он входил, — если бы вы только знали, как встречали! Встречали, как встречают свет, когда потухнет электричество и вдруг опять зажжется. С ним входила теплота, с ним входил ум; он нес с собой интерес, юмор — но и едкую язвительную шутку. <…> Он не мог бы все то печатать, что иногда срывалось с языка. Из цензурных соображений не мог бы: да, он, служивший по иностранной цензуре, говорил нецензурное. <…> Ему принадлежит изречение, в свое время обошедшее петербургские гостиные, — «Русская история до Петра Великого — одна панихида, а после Петра — одно уголовное дело». <…>
Волконский. Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 164-165
<…> Мари, которая знала его с детства, не помнила его иначе, как седым, и когда как-то впоследствии спросила его: «Какого цвета были у вас волосы в молодые годы?» — он отвечал: «Это было так давно, что я и сам не помню». О наружности своей он вообще очень мало заботился: волосы его были большею частью всклочены и, так сказать, брошены по ветру, но лицо было всегда гладко выбрито; в одежде своей он был очень небрежен и даже почти неряшлив; походка была действительно очень ленивая; роста был небольшого; но этот широкий и высокий лоб, эти живые карие глаза, этот тонкий выточенный нос и тонкие губы, часто складывавшиеся в пренебрежительную усмешку, придавали его лицу большую выразительность и даже привлекательность. Но чарующую силу сообщал ему его обширный, сильно изощренный и необыкновенно гибкий ум: более приятного, более разнообразного и занимательного, более блестящего и остроумного собеседника трудно себе и представить. В его обществе вы чувствовали сейчас же, что имеете дело не с обыкновенным смертным, а с человеком, отмеченным особым даром Божиим, с гением. <…>
А.И. Георгиевский. Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 110
<…> Я помню следующее. После обедни в малой церкви Зимнего дворца был завтрак на Запасной половине, Государя не было. Я бывал на этих завтраках при нем. <…> Императрица Мария Александровна! Я не верил глазам. Было же в ней что-то особенное, что привлекало к ней лучших людей: кн. П.А. Вяземский, Ф.И. Тютчев, гр. А.К. Толстой были ее поклонниками. Но что же было в ней, что сжимало и доводило до раздражения таких чистых и глубоко благородных людей, незлобных и сердечных, каким был принц П.Г. Ольденбургский! В чем же заминка, чего же недоставало, а заминка была <…>
Ее окружало славянофильское кольцо. Как иностранка, желающая искренно и сознательно быть русской, она могла принять кажущееся за действительное, а чтобы понять все оттенки, нужно было быть русской или Екатериной! <…>
Первая «персона женская» (выражаясь петровским языком) при новой Императрице была фрейлина Анна Федоровна Тютчева. Я помню ее худенькою, с узкой талиею, с кисловатым лицом; она играла роль, изрекала, критиковала, направляла, и всего больше надоедала всем и каждому. Ее поверстали в воспитательницы В<еликой> К<нягини> Марии Александровны. В этом звании она еще более расходилась. Недоброжелатели называли ее Ave Tutcheff (Святая Тютчева. — Фр.). Мало-помалу она теряла значение по мере усиления ее соперницы Анастасии Николаевны Мальцовой. Двор ей стал невыносим, и она вышла замуж за И.С. Аксакова и переселилась в Москву. Но Тютчевы удержали свое положение при дворе благодаря двум другим сестрам — Дарье и Екатерине Фед. Тютчевым. Первая была характера самостоятельного и жила особняком; умная, живая, наблюдательная и пылкая, она неизмеримо выше старшей сестры. <…>
Мемуары графа О.Д. Шереметева.
М., 2001. С. 115—117
<…> Тютчев был глубоко русский человек в своих политических убеждениях и в то же время глубоко искренний. Оттого он ненавидел либерализм того времени, потому что считал его космополитизмом и совсем не русским; а в силу его глубокой искренности он не знал, что значит неискренняя речь... При Дворе, где Императрица Мария Александровна его очень ценила, он говорил, так же мало стесняясь в своей искренности, как у себя дома...
В этом отношении его три старшие дочери, а в особенности старшая Анна Федоровна, вышедшая потом за И.С. Аксакова, были достойными его детьми. Императрица Мария Александровна, когда она была Цесаревною, выбрала себе двух замечательных по уму и по качествам фрейлин, княжну А.С. Долгорукову, потом вышедшую замуж за Альбединского, и А.Ф. Тютчеву; второй потом было поручено воспитание Великой Княжны Марии Александровны. Искренность и правдивость этой умной женщины была замечательна. Чад, чары и яд Двора до нее не только не касались, но не доходили близко <…>
Князь Мещерский. Воспоминания.
М., 2001, С. 159-160
Великая Княгиня Елена Павловна. В этом имени целая эпоха. Среди блестящего ряда придворных светских увеселений особенно выделялись вечера В[еликой] Княгини в Михайловском дворце, в этом «Palais Michel», один звук которого [заставлял] трепетать сокровенные струны тайных честолюбцев — молодой России 60-х годов, глубоко веровавших в свое признание обновителей Отечества. Я не могу говорить о серьезных вечерах Великой Княгини, куда я, понятно, как кавалергардский офицер, не мог проникнуть, но буду говорить о тех оригинальных и прекрасных вечерах, не слишком многочисленных, в нижних комнатах дворца, которые давали с какою-то неясной целью ввиду появления в свете нового поколения молодых Великих Князей с Цесаревичем Николаем Александровичем во главе. На этих вечерах танцевали около 30 пар, и быть приглашенным на эти вечера считалось особенно почетным. <…> Весь двор В[еликой] Княгини был налицо. Здесь же плавно выступали сановники: кн. A.M. Горчаков, гр. В.Н. Панин, П.А. Валуев, братья Милютины и юркий князь О.Н. Урусов, le beaux esprits (люди, страдающие остроумием. — Фр.): Тютчев, Марке - вич, кн. В.Ф. Одоевский...
Мемуары графа О.Д. Шереметева.
М., 2001. С. 111—112
<…> Он <Тютчев> был олицетворением и осуществлением поэта в жизни: реальная проза жизни для него не существовала... Он жизнь свою делил между поэтическими и между политическими впечатлениями, и, отдаваясь им, он мог забывать время, место и подавно такие прозаические вещи, как еду, сон, или такие стесняющие свободу вещи, как аккуратность, дисциплина, придворный этикет...
Князь Мещерский. Воспоминания.
М., 2001, С. 158
<…> Участвуя в церемонии освящения Исаакиевского собора в 1858 году и испугавшись, как он пишет в своем письме — I'avenir vraiment effreyable d'une messe d'archeveque qui commencait a peine suivie d'une панихида en memoire de cinq souverains fondateurs et edificateurs de I'eglise (Pierre I, Catherine II, Paul, Alexandre et Nicolas) et d'un Tedeum non moins solennel et non moins long) (т.е. будущности поистине ужасающей — архиерейской обедни, едва начинавшейся, а за нею вслед панихиды в память пяти государей, основателей и создателей храма (Петра I, Екатерины II, Павла, Александра и Николая), и молебна не менее торжественного и не менее длинного. — Фр.)» — Федор Иванович преспокойно отправился домой пешком, как был в раззолоченном мундире камергера, к большому удивлению и любопытству глазевших на него прохожих.
Другой раз, неся при каком-то торжестве шлейф одной из великих княгинь, кажется, Елены Павловны, Федор Иванович, заметив кого-то из знакомых, остановился и заговорил с ним, в то же время не выпуская шлейфа из рук, что, разумеется, произвело замешательство в кортеже и остановку шествия. Федор Иванович только тогда выпустил из рук злополучный шлейф, когда кто-то из придворных чуть не силой вырвал его у него. Не смущаясь подобным инцидентом, Тютчев остался на своем месте и продолжал беседу, забыв совершенно и о шлейфе, и о своих обязанностях. Но самый характерный анекдот вышел с ним при одном из его посещений великой княгини Елены Павловны, которая, сказать к слову, чрезвычайно благоволила к Тютчеву, высоко ставя его светлый ум и прямоту сердца. Дело было летом. Во дворце великой княгини Елены Павловны в Петергофе был назначен бал, куда должен был явиться и Федор Иванович. В этот день утром, приехав с дачи, Тютчев обедал в доме одних своих близких друзей и, по обыкновению, после обеда прилег отдохнуть, с тем чтобы вечером ехать во дворец. Пока он спал, его лакей привез ему парадный фрак и, оставив на стуле в комнате, уехал, согласно ранее отданному ему приказанию. Проснувшись, Федор Иванович оделся и уехал, никем из хозяев дома не замеченный, как он это часто делал.

Освящение Исаакиевского собора 30 мая 1858 г.
Худ. Ф. Тимм. Литография
Приехав ко дворцу и идя по аллеям парка, ярко освещенным иллюминацией, Тютчев, по обыкновению, о чем-то глубоко задумался и шел, не замечая ни того, что перед ним, ни того, что на нем.
— Федор Иванович, — окликнул его встретившийся ему князь Б., — что за фрак на вас?
— А что? — спокойным тоном переспросил Федор Иванович. — Фрак как фрак; если плохо сшит, то это дело не мое, а моего портного. — Сказав это, он продолжал свой путь, даже не оглянувшись на себя. Дело в том, что Федору Ивановичу часто надоедали его близкие друзья, указывая ему на его слишком мало щегольское одеяние, а потому он, привыкнув к подобного рода замечаниям, не обращал уже на них никакого внимания.
Не успел Федор Иванович пройти еще несколько шагов, как его снова окликнули, и снова ему пришлось выслушать восклицание изумления по поводу его костюма. На этот раз Тютчев даже не счел нужным останавливаться и, пробормотав только:
— Ах, не все ли равно, точно не все фраки одинаковы, — направился к показавшейся вдали великой княгине.
Взглянув на Тютчева, ее высочество закусила губу, стараясь удержаться от смеха, и в то же время дала знак окружающим ее, чтобы они не обращали внимания Федора Ивановича на его странный костюм и оставили бы его в покое. Поговорив с великой княгиней и побродив с полчаса по залам дворца и по парку, Федор Иванович незаметно исчез и уехал домой. На другой день он снова навестил тот дом, где был накануне, и там между прочим ему сообщили, что кто-то вчера обокрал выездного лакея.
— Ну что могли у него украсть? — удивился Федор Иванович.
— Представьте себе, его ливрею.
— Ливрею? Но как же это могло случиться?
— Сами не понимаем. Ливрея висела в передней и вдруг исчезла. И что удивительно, рядом на стуле лежал ваш фрак — его не взяли, а поношенную ливрею Федора взяли.
— Мой фрак? — удивился Федор Иванович и вдруг, добродушно рассмеявшись, произнес: — Теперь, мне кажется, я знаю, кто вор, — c'est moi qui a vole le «фрак» de Феодор (это я тот, кто украл фрак Федора. — Фр.).
— Как вы? Стало быть, вчера к великой княгине...
— Ну, конечно, — самым невозмутимым тоном продолжал Федор Иванович, — я, должно быть, по ошибке принял фрак Федора за свой, надел его и в нем поехал во дворец, это легко могло случиться.
Чтобы читатель мог дополнить картину, мне остается прибавить, что Федор был плечистый, рослый выездной гайдук, а Федор Иванович, как я уже говорил, маленький, тщедушный человек, узкоплечий и узкогрудый. Можно себе представить, как должен был показаться один во фраке другого. Всякий другой на месте Федора Ивановича, если бы даже по рассеянности и попал в такое положение, был бы чрезвычайно сконфужен и обеспокоен, наверно бы досадовал и вообще чувствовал бы себя неловко, но Федор Иванович был выше всех этих мелких ощущений, он тут же искренно забыл об этом казусе, считая его недостойным какого-либо внимания. <…>
Тютчев Ф.Ф. Кто прав? Роман, повести, рассказы.
М.: Современник, 1985. С. 490-492
Тютчев любил солнце; помню как вчера его живописную позу на Невском проспекте, летом, в сильнейший зной, он сидит развалившись на скамейке дворника у дома армянской церкви, где он жил, на панели, и читает газеты. Помню тоже, как, уходя от меня однажды вечером, он берет первую попавшуюся шубу и говорит лакею: все равно, скажите хозяину этой шубы, что я ее принял за свою. Его камергерский мундир был очень поношен; ему говорят по-французски: да сшейте новый мундир, Государь вас заметит и обидится.
— Mais l'Empereur m'a deja vu dans cet uniforme (Но император меня уже видел в этом мундире. — Фр.), — отвечает Тютчев.
— Et il ne vous a rien dit? (И ничего не сказал вам? — Фр.).
— Rien, il m'a seulement regarde avec melancholie (Нет, просто меланхолично посмотрел на меня. — Фр.).
Князь Мещерский. Воспоминания.
М., 2001, С. 159
Дом сумасшедших в Москве в 1858 г.
<Из памфлета Е.П. Ростопчиной>

<…>
76
С ними тощий, поседелый,
Жизнью сломанный поэт,
В ком душа убила тело,
И горит духовный свет...
На лице, умно-прекрасном,
На измученных чертах
Есть рассказ о горе страстном,
О мучительных борьбах...
77
Потому всегда готово
Для страданий, слез чужих
У него участья слово,
Дань святая чувств святых...
Кроткий духом, мягкий нравом,
Как-то дипломат-певец
Сладит с цензорским уставом,
От волков спасет овец?..
<…>
Эпиграмма и сатира. 1840—1880.
М.-Л. 1931. Т. 2. С. 72
<…> Однажды, зимой, приехав к одному своему знакомому, Федор Иванович, выйдя из кареты, приказал кучеру поскорее возвращаться обратно, так как карета должна была ехать за кем-то в другой конец города, а сам направился к подъезду. Шубу свою, как и летнее пальто, Федор Иванович в рукава никогда не надевал, а накидывал на плечи, причем нередко рукавами вниз. В ту минуту, когда он брался уже за ручку подъезда, перед ним очутился оборванец, просящий милостыню. Как это случилось, не умею объяснить, но только Федор Иванович, приняв оборванца за швейцара, бросил ему на руки шубу, а сам не торопясь стал подыматься на лестницу, к большому удивлению выскочившего швейцара, не понимавшего, каким образом мог Федор Иванович приехать зимой в одном цилиндре и во фраке. Его недоумение разъяснилось полчаса спустя, когда Федор Иванович, возвратившись, потребовал свою шубу.
К чести тогдашнего полицеймейстера Трепова, надо сказать, что шуба была найдена на другой же день и возвращена по принадлежности.
 Летом Ф.И. ходил всегда в пледе и в своем неизменном цилиндре, причем цилиндр этот, будучи раздвижным (шапокляк), надевался им иногда раздвинутым только с одного бока, что, конечно, вызывало у встречных невольные улыбки. В один из своих приездов к нам, в Шувалово, Ф.И., просидев до вечера, отправился в парк на музыку, но там появление его произвело сенсацию. Вся публика, отхлынув от эстрады, с жадным любопытством принялась глазеть на странного господина, завернутого в какую-то тряпку. Оказывается, что Ф.И. вместо пледа сдернул с вешалки ситцевую ярко-пеструю занавеску, которой были покрыты от пыли платья, и, закутавшись в нее, так и ушел, никем не замеченный.
Летом Ф.И. ходил всегда в пледе и в своем неизменном цилиндре, причем цилиндр этот, будучи раздвижным (шапокляк), надевался им иногда раздвинутым только с одного бока, что, конечно, вызывало у встречных невольные улыбки. В один из своих приездов к нам, в Шувалово, Ф.И., просидев до вечера, отправился в парк на музыку, но там появление его произвело сенсацию. Вся публика, отхлынув от эстрады, с жадным любопытством принялась глазеть на странного господина, завернутого в какую-то тряпку. Оказывается, что Ф.И. вместо пледа сдернул с вешалки ситцевую ярко-пеструю занавеску, которой были покрыты от пыли платья, и, закутавшись в нее, так и ушел, никем не замеченный.
Другой раз, в то время, когда Ф.И. гулял по Невскому перед домом армянской церкви, где он жил, к нему подошла какая-то нищенка и начала канючить. Сначала, поглощенный своими мыслями, Ф.И. долго не обращал на нее внимания, но, должно быть, нищенка была достаточно настойчива, если ей, наконец, удалось вывести даже его из задумчивости. Взглянув на нее и поняв наконец, чего она желает, Ф.И. полез было в карман, но, к сожалению, мелочи не оказалось. Тогда он достает из бумажника крупную ассигнацию, протягивает ее нищенке и приказывает ей пойти разменять. Надо ли добавлять, что нищенка меняет эти деньги по сей день, если она давно не умерла. <…>
Тютчев Ф.Ф. Кто прав? Роман, повести, рассказы.
М.: Современник, 1985. С. 492-493
<…> Трудно выразить словами, насколько Тютчев раздражался всякой людской пошлостью: это можно было только чувствовать, говоря с ним на эту тему. Невольно вспоминается мне такой случай. В 60-х годах на Загородном проспекте в Петербурге существовал кабачок, называвшийся «Капернаумом» в писательской среде. Сюда стекалась едва ли не вся столичная литературная братия. В «Капернаум» однажды затащил Тютчева всюду поспевавший, всюду летавший Григорович. И как назло поэт натолкнулся тогда на некрасивую сценку. Слегка подвыпивший молодой, но солидный писатель сел верхом на юмориста Лейкина, уже полупьяного, изображая генерала, командовавшего войсками, и орал что-то зажигательное. Тютчев плюнул и без шапки выскочил из кабачка. Хохотавший Григорович, схватив шапку поэта, стремглав выскочил из кабачка. На подвыпившую компанию это подействовало освежающе, и кабачок стал пустеть. «Какая гадость. Что за фантазия у Григоровича таскать такого кристально чистого человека, как Тютчев, в «Капернаум!» — сказал мне, когда мы выходили из кабачка, Артур Романович Бенни, «загадочный человек», как назвал его Лесков, который вывел этого действительно загадочного человека в своем романе «Некуда» под прозрачным псевдонимом Райнера, одного из членов «Знаменской Коммуны». Григорович передавал мне за верное, что после посещения «Капернаума» у Тютчева была нервная лихорадка. Насколько поэт ненавидел пошлость, доказывает еще один, происшедший на моих глазах, случай. В немецком театре шла какая-то несуразная, банальная мелодрама. Тютчев ежился все время на своем стуле и, всегда сдержанный, привыкший владеть собою, в конце концов не выдержал и довольно громко воскликнул: «Что же это такое? Какая наглая пошлость» — и, сильно обиженный, уехал домой. «Какой-то стихотвор, довольно их у нас» принес Тютчеву маленький сборник своих стихотворений, спрашивая «откровенного» совета — продолжать ли ему стремиться на Парнас. Тютчев перелистал книжку и на шмуцтитуле начертал: «Бросьте в огонь эту колоссальную пошлость и уймитесь!» Злополучный стихотвор, улыбаясь, сказал мне, что у него есть автограф знаменитого поэта, который он сохранит до смерти, и показал мне книжку своих стихов, подробно передав мне о своем визите к Тютчеву. <…>
П.В. Быков. Тютчев Ф.И. в документах, статьях и
воспоминаниях современников. М., 1999. С. 152—153
И.С. Аксаков — И.С. Гагарину
<Москва. 24 ноября/6 декабря 1874>
<…> В его писаниях с самых ранних лет выражалась замечательная самостоятельность и единство мысли. Из присланных вами двух стихотворений одно, полагаю, относится к декабристам («Вас развратило самовластье...»), стало быть: писано в 1826 г., когда ему было 23 года. Оно сурово в своем приговоре. Ни Пушкин, никто в то время, из страха прослыть нелиберальным, не решился бы высказать такое самостоятельное мнение — и совершенно искреннее, чуждое всяких расчетов, потому что, кроме вас, до сих пор в течение почти 50 лет оно никому не сообщалось. Точно так же относительно «самодержавия» нет противоречия между его стихами на взятие Варшавы и позднейшими. Я очень сожалею, что подлая цензура заставила меня перепечатать некоторые страницы и выкинуть из письма Тютчева, писанного в 1872 г., строки о самодержавии. Относительно Польши и поляков, как в 1831 г., так в 1844 и 1849 гг., так и в 1863 и 1864 гг., он имел в виду не торжество собственно самодержавия, но «целость державы» и «славянское единство», которому Польша была всегда враждебна. Самодержавие же признавалось им тою национальною формой правления, вне которой Россия покуда не может измыслить никакой другой, не сойдя с национальной исторической формы, без окончательного, гибельного разрыва общества с народом. <…>
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 56-57
 <…> Тютчев <…> живет легкою, беспечною жизнью; он быстро привязывается, воспламеняется и быстро стихает, и память сердца его недолговечна... Он не выносит борьбы и сильных волнений; он готов оттолкнуть от себя то или другое воспоминание и впечатление, лишь бы оно не тревожило его настоящего. Он легок и неглубок, но горяч и искренен, а потому приметен... Но он не образец и не воплощение русского идеала, что бы ни говорили его поклонники... А между тем Тютчев, всегдашний поклонник красного словца, готов для него пожертвовать истиной, которая для него не всегда интересна. Ведь за границей он слышит о тревожных движениях в дворянской среде, и, не давая себе ясного отчета о причинах и поводах известного явления, он небрежно бросает из-за моря свою эпиграмму... Но эта эпиграмма попадает в цель, потому что соответствует взглядам в Зимнем дворце, и эпиграмма эта летит в этот Зимний дворец, и читают ее — перечитывают, и красным словцом отделываются от расследования настоящих причин известного явления... Тютчеву, как и графине Блудовой, всюду грезится олигархия лордов... «Куда себя морочите вы грубо, — говорит он московскому дворянству, — Какой у вас с Россиею разлад,
<…> Тютчев <…> живет легкою, беспечною жизнью; он быстро привязывается, воспламеняется и быстро стихает, и память сердца его недолговечна... Он не выносит борьбы и сильных волнений; он готов оттолкнуть от себя то или другое воспоминание и впечатление, лишь бы оно не тревожило его настоящего. Он легок и неглубок, но горяч и искренен, а потому приметен... Но он не образец и не воплощение русского идеала, что бы ни говорили его поклонники... А между тем Тютчев, всегдашний поклонник красного словца, готов для него пожертвовать истиной, которая для него не всегда интересна. Ведь за границей он слышит о тревожных движениях в дворянской среде, и, не давая себе ясного отчета о причинах и поводах известного явления, он небрежно бросает из-за моря свою эпиграмму... Но эта эпиграмма попадает в цель, потому что соответствует взглядам в Зимнем дворце, и эпиграмма эта летит в этот Зимний дворец, и читают ее — перечитывают, и красным словцом отделываются от расследования настоящих причин известного явления... Тютчеву, как и графине Блудовой, всюду грезится олигархия лордов... «Куда себя морочите вы грубо, — говорит он московскому дворянству, — Какой у вас с Россиею разлад,
Куда вам в члены Английских палат,
Вы просто члены Английского клуба».
И все смеются: смеется двор; смеются и другие — над теми, которые смеются... Здесь Тютчев заодно с господствующим течением. Ему отвечают в стихах, но ответ уже неинтересный. Тютчевское «mot» («словечко». — Фр.) уже всех удовлетворило, и вопрос исчерпан. <…>
Мемуары графа О.Д. Шереметева.
М., 2001. С. 162
<Из дневника А.В. Никитенко>
31 <мая 1858 г.>. Суббота. Запрещено употреблять в печати слово «прогресс». В самом деле, это бессмысленное слово в приложении к XIX веку, который утописты превозносят до небес, что он родит чудеса прогресса. Хорош прогресс, когда Европа среди политических страшных бурь, через потоки крови, добралась, наконец, до Наполеона III, который тридцать семь миллионов образованного, прогрессивного и, как говорится, великого народа отдал под надзор полиции. И у нас тоже хорош прогресс своего рода, когда даже запрещается употреблять это слово. <…>
1 июня. Воскресенье. Вечером в вокзале встретил Ф.И. Тютчева. Весьма интересный разговор о нынешнем состоянии дел. <…>
28 <сентября 1858 г.>. Воскресенье. Кажется, мы не много выиграли с переменою министра. Евграф Петрович <Ковалевский> тоже отличный человек, но в министерстве по-прежнему ничего не делается. Судьбы науки и образования по-прежнему остаются в руках <П.И.> Гаевского, Кисловского и Берте. На днях был у меня председатель комитета иностранной цензуры, Федор Иванович Тютчев, и жаловался, что министр на словах решит одно, а на бумаге другое. <…>
5 <октября 1858 г.>. Воскресенье. Утром был у Ф.И. Тютчева с целью вместе с ним обсудить: нельзя ли двинуть как-нибудь цензурное дело?
Федор Иванович рассказал мне, между прочим, о проекте, присланном сюда из Берлина нашим посланником, бароном <А.Ф.> Будбергом, который предлагает, по примеру Франции, учредить наблюдательно-последовательную цензуру.
— Хорошо! а нынешняя предупредительная остается? — спросил я.
— В том-то и дело! — отвечал Тютчев.
Был уже, по высочайшему повелению, назначен для рассмотрения проекта и комитет из князя Горчакова, князя Долгорукова, Тимашева, нашего министра и Тютчева. Последний сильно протестовал против этой двойственной цензуры — предупредительной и последовательной. Наш министр с ним соглашался. <…>
 24 <декабря>. Вторник. Обедал у графа Блудова. Были Плетнев и Тютчев. Разговор о знаменитом, только что состоявшемся учреждении для сдерживания писателей, которые, по мнению Чевкина, Панина и других, подготовляют в России революцию. Теперь вздумали создать комитет, который бы любовно, патриархально и разумно направлял литературу нашу, особенно журналистов, на путь истинный. Он будет входить в непосредственные с ними сношения и действовать мерами короткого назидания, не вступая ни в какие цензурные права.
24 <декабря>. Вторник. Обедал у графа Блудова. Были Плетнев и Тютчев. Разговор о знаменитом, только что состоявшемся учреждении для сдерживания писателей, которые, по мнению Чевкина, Панина и других, подготовляют в России революцию. Теперь вздумали создать комитет, который бы любовно, патриархально и разумно направлял литературу нашу, особенно журналистов, на путь истинный. Он будет входить в непосредственные с ними сношения и действовать мерами короткого назидания, не вступая ни в какие цензурные права.
— А если литераторы их не послушают? — спросил я у графа.
— Ну, так ничего.
— Если ничего, — заметил я, — так и комитет ничего.
— Хорошо! Это, видите ли, нечто вроде французского Bureau de la presse (Комитета печати. — Фр.) переделанного на русский лад. Удивительная вещь!.. Нет такой нелепости, такого бессмыслия, которое бы у нас не могло быть предложено в виде правительственной меры.
Граф Блудов, разумеется, против этого бестолкового учреждения, которое непременно должно или превратиться в негласный бутурлинский комитет, процветавший при Николае Павловиче, или в самое смешное ничто.
Но кто же члены этого «троемужия», как называет его Тютчев? Это всего любопытнее: <Н.А.> Муханов (товарищ нашего министра), <гр. А.В.> Адлерберг (сын <В.Ф.> Адлерберга) и <А.Е.> Тимашев. Если бы нарочно постарались отыскать самых неспособных для этой роли людей, то лучше не нашли бы. Они будут направлять литераторов, советовать им, рассуждать с ними о важнейших вопросах, нравственных, политических, литературных, — они, которые никогда ни о чем не рассуждали, ничего не читали и не читают! Смех и горе! <…>
Никитенко А.В. Дневник. Т. II.
М., 1956. С. 27, 36-37, 50
<Из дневника А.В. Никитенко>
Март 2. <1861 г.>. Четверг. Не то худо, когда говорят что-нибудь наперекор кому-нибудь и чему-нибудь, а когда говорят ложь, когда ничего не говорят или мешают друг другу говорить. Обед, данный Академиею <наук> некоторыми литераторами и знакомыми князю П.А. Вяземскому, который приобрел литературную известность и всеобщую любовь и уважение. Я охотно согласился принять участие в этой овации и даже приготовил маленькую речь, но не сказал ее, потому что и без нее было много речей и стихов. <…> Стихов Тютчева я не расслышал, но их многие хвалили. Праздник вообще был довольно оживлен. <…>
Никитенко А.В. Дневник. Т. II.
М., 1956. С. 179
Е.Ф. Тютчева — Д.И. Сушковой
<Петергоф>. 14/<26> июля 1861 г.
Мы обедали у Вяземских в обществе нового министра Валуева, который разглагольствует точно один из семи греческих мудрецов, как говорит Дарья. <…> В 10 часов мы с папа сели в вагон железной дороги и направились в город. Ночь мы провели в квартире папа. <…> В 9 часов Дарья поднялась на палубу корабля, и мы распрощались с нею.
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 325

Вид Монплезира в Петергофе.
Худ. К. Шульц. Литография. 1840-1850-е гг.
Е.Ш. Тютчева — Д.И. Сушковой
<Петергоф>. 17/<29> июля 1861 г.
Вот два стихотворения, которые я для тебя переписала. То, что написано папа, было сочинено ко дню рождения кн. Вяземского, 12-го этого месяца. Кстати, кажется, я совсем забыла рассказать тебе о прелестном празднике, устроенном для нас княгиней Вяземской в Монплезире в день рождения ее мужа. Мы намеревались ограничиться небольшим интимным сборищем в Монплезире. Но чтобы устроить там чаепитие, нужно было получить разрешение Шувалова, и вот в среду, к половине десятого вечера весь двор мало-помалу собрался на берегу моря — государь, государыня, вел. кн. Мария, ее дочери, старший сын и вся свита. Княгиня Вяземская поручила мне разливать чай за большим столом; это не очень приятно, так как нужно справляться о личных вкусах каждой из этих высоких персон. После чая мы разыгрывали шарады, и все было закончено живой картиной, представляющей цыганский табор, освещенный бенгальским огнем. <…> Папа, который был в Петергофе, не явился из-за своего туалета, состоявшего из некоего знакомого тебе малоизящного сюртука. Однако императрица пожелала его видеть, и мы сказали ей о причине его отсутствия, тогда она отправила кого-то, чтобы позвать его. Но дома его уже не нашли, и, к нашему большому сожалению, он так и не появился, тем не менее, честь была предложена (набранное курсивом написано по-русски. — Ред.).
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 325
Д.Ф. Тютчева — А.Ф. Тютчевой
<Царское Село>. 1/<13> сентября 1861 г.
Папа представлен к ордену Станислава 1-й степени, у которого голубая лента. Вот папа и украшен лентой. Горчаков сообщил ему эту новость под строжайшим секретом, пока государь не даст своего согласия. Мама радуется этому потому, что тем самым устанавливается равновесие между Вяземским и папа.
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 326
Эрн.Ф. Тютчева — К. Пфеффелю
<Петербург>. 13/25 ноября 1861 г.
Он (император Николай. — Ред.) ненавидел ум, и отсутствие такового было в его глазах достоинством. Некоторые из этих старых болванов по-прежнему сидят на своих местах, и мой муж говорил на днях, что они напоминают ему волосы и ногти покойников, продолжающие некоторое время расти и после погребения. <…>
Здоровье мужа пока немного поправилось, но сильно опасаюсь, что зимой у него будут болеть ноги и его раздражительность возвратится. Ему так нужно общество, а главное, так нужно выезжать из дома, что необходимость оставаться в четырех стенах для него сущее наказание.
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 326
Д.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой
<Царское Село>. 4/<16> сентября 1862 г.
<…> Трогательный папа отправился на торжественный выход (императора в Зимнем дворце в честь собственных именин. — Ред.) 30-го в полном параде и в золоченой карете, прокатившей его шагом по Невскому. Во время богослужения он бродил по гостиным митрополита в поисках чашки чая. Ничего он не получил, если не считать общества Алексея Толстого, который, мне кажется, не уступает папа в отношении к торжественным церемониям; в два часа папа вернулся усталый и голодный, его посадил в свою коляску Корф в тот момент, когда папа уже собрался идти домой пешком <…>

Торжества в честь тысячилетия России. Новгород. 8 сентября 1862 г.
Гравюра Ф. Тейхеля. 1862 г.
Папа едет в Новгород (на празднование тысячелетия России и открытие памятника работы скульптора М.О. Микешина 8 сентября 1862 г. — Ред.), он просит тебя написать ему к 12-му письмо, в котором ты скажешь, что бабушка просит его приехать, — это письмо может ему понадобиться, чтобы попросить отпуск дней на десять. <…>
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 331
<Из дневника А.В. Никитенко>
29 <января 1863 г.>. Вторник. Получил от министра внутренних дел предписание о назначении меня членом в высочайше учрежденную комиссию для рассмотрения законов о печати, под председательством князя Оболенского.
30. Среда. <…> Со мною вместе от Министерства внутренних дел назначены Ржевский и Тютчев. <…>
Никитенко А.В. Дневник. Т. II.
М., 1956. С. 314-315
<…> Тютчев серьезно занемог, и Леле пришлось за ним ухаживать, за отсутствием его семьи. Болезнь была довольно продолжительна, так что и конец мая застал его еще в Петербурге, и Леля писала к Мари еще 29 мая, что ей приходилось делить все свое время между заболевшими ее детьми, которые жили на даче вместе с ее тетушкой на Черной речке в доме Громовского Сергиевского приюта, и домом армянской церкви на Невском проспекте, где жил Феодор Иванович. С того времени, как я стал работать в редакции «Московских ведомостей», я высылал их Леле, и она ежедневно читала передовые статьи Феодору Ивановичу, и чтение это сопровождалось замечаниями такого высокообразованного и остроумного собеседника и знатока нашей внешней и внутренней политики, как Тютчев, и давало повод к бесконечным беседам между ними, а в этом и заключалось истинное блаженство для Лели. И теперь, ухаживая за Феодором Ивановичем, она продолжала ему читать передовые статьи «Московских ведомостей» по установившемуся между ними обычаю. <…>
A.M. Георгиевский. Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 117
Е.А. Денисьева — М.А. Георгиевской
С.-Петербург. 8 мая 1863 г.
 ...Я известила твоего мужа о приезде Тют<чева>, который должен был приехать раньше меня. Вместо этого вот уже неделю я ухаживаю за ним. Он был очень серьезно болен. Я была сильно встревожена и проводила дни и ночи около него (потому что семья его отсутствует), и я уходила навестить моих деток лишь часа на два в день. Теперь, слава богу, и он и они поправляются, и, если все будет продолжать идти хорошо, мы поедем все вместе в Москву, т.е. он, Леля и я, после пятнадцатого этого месяца. Я изнемогаю от усталости и рассчитываю на мое пребывание в Москве и на радость свидания с вами, чтобы восстановить немного мое здоровье, расстроенное более, чем когда-либо за это последнее время, столькими волнениями и тревогами.<…> Тют<чев> поручает мне передать, что он повергается к твоим стопам и с чувством нежности жмет руку Александра. Храни вас всех бог. Надеюсь, до скорого свидания.
...Я известила твоего мужа о приезде Тют<чева>, который должен был приехать раньше меня. Вместо этого вот уже неделю я ухаживаю за ним. Он был очень серьезно болен. Я была сильно встревожена и проводила дни и ночи около него (потому что семья его отсутствует), и я уходила навестить моих деток лишь часа на два в день. Теперь, слава богу, и он и они поправляются, и, если все будет продолжать идти хорошо, мы поедем все вместе в Москву, т.е. он, Леля и я, после пятнадцатого этого месяца. Я изнемогаю от усталости и рассчитываю на мое пребывание в Москве и на радость свидания с вами, чтобы восстановить немного мое здоровье, расстроенное более, чем когда-либо за это последнее время, столькими волнениями и тревогами.<…> Тют<чев> поручает мне передать, что он повергается к твоим стопам и с чувством нежности жмет руку Александра. Храни вас всех бог. Надеюсь, до скорого свидания.
Твоя сестра и друг Елена
Скажи Александру, что я каждый день читаю Тютчеву «Московские ведомости» и что чтение это живо нас интересует, и что мы ему очень признательны за удовольствие, которым мы ему обязаны.
Чулков Г. Последняя любовь Тютчева.
М., 1928. С. 116-117
Е.А. Денисьева — М.А. Георгиевской
С.-Петербург. 29 мая 1863 г.
Я с правом могу сказать, милая сестра, что злой дух упорно преграждает нам путь в Москву. Ф. Ив. опять заболел, и сильно — он в постели и не менее как на неделю. Эта задержка меня ужасно расстраивает. <…> Я принуждена отправить детей на дачу с мамой, потому что с первого числа мы бросаем нашу квартиру, и что касается меня, то в ожидании отъезда я остаюсь в воздухе и принуждена искать пристанища то у мамы, то у него — одной ногой на даче, другой в городе — это противно и нужно иметь большой запас энергии, чтобы не поддаться дурному настроению, этому безобразному, злому существу столь дурного тона.
Чулков Г. Последняя любовь Тютчева.
М., 1928. С. 117
<…> В минуту самого сильного разгара польского вопроса в 1863 году, пока Катков своими вдохновенными статьями будил русские сердца по всей России, в Петербурге он имел мало слушателей его патриотической проповеди... Гостиная Блудовых, Тютчевых, Батюшковых (Помпея Николаевича, брата поэта, и Софии Николаевны), моих родителей и еще две-три гостиные, где русские вопросы понимались по-карамзиновски, и затем — нигде больше. Когда наступила пора отвечать на дерзкие ноты европейских держав по польскому вопросу, вопрос: как ответить? — далеко не был предрешенным вопросом. <…> Мало того, в Министерстве иностранных дел никто не имел уверенности, что князь Горчаков ответит Европе с подобающим России достоинством. И достаточно было в то время видеть измученного страданиями и тоскою поэта и приятеля канцлера, Ф.И. Тютчева, чтобы догадываться, как нехорошо шли тогда дела в смысле русских интересов. Мне рассказывали, что накануне дня, когда огласилась прекрасная ответная нота петербургского кабинета, Тютчев вечером заходил к Блудовым и там, сказавши, что мы уступаем Европе, разрыдался. Легко понять, как он обрадовался на другой день, прочитав вместе с нами полный достоинства и гордой твердости ответ Русского Государя на дерзкое вмешательство Европы в польские дела России. Говорили, что действительно так было: еще накануне ничего не было решено, и Государь находился между нерешительностью Горчакова и своим собственным чутьем.
Говорили тоже, что на помощь второму — именно в тот вечер, когда отец Тютчев рыдал над ожидающим Россию срамом, доблестная дочь его Анна Федоровна умоляла Императрицу взять на себя инициативу и поддержать Государя в его решимости ответить Европе достойно России и что голос Императрицы решил победу русской чести. Из двух представленных Горчаковым Государю проектов ответа, слабого и сильного, Государь выбрал второй. Говорили тогда, что главные мысли этой ноты принадлежали перу Тютчева. Так было в 1863 году. <…>
Князь Мещерский. Воспоминания.
М., 2001, С. 205-206
<Из дневника А.В. Никитенко>
28 <сентября 1863 г.>. Суббота. Разговор с Ф.И. Тютчевым. Он в близких отношениях к <А. М.> Горчакову и ко двору. Я изъявил ему опасения о войне; он не разделяет этих опасений, полагая, что Наполеон без Англии не начнет войны, а Англия не расположена к ней. Я спросил его, какое положение Австрия принимает в отношении к нам? Разумеется, она не выражает никаких определенных видов. Она боится России, но не хочет отстать и от Запада; боится также Франции. А Пруссия? Пруссия тяготеет к нам — это натурально. Но идиотское нынешнее правление в ней делает из нее что-то нелепое. Германское единство — чистая и пустая фантазия.
Но я все-таки уверен, что война неизбежна. Наполеон с Италией и еще с кем-нибудь может ринуться на нас. Может быть, этого и добивается Англия «по дружбе» своей к Наполеону. Как бы то ни было, а мы не должны впасть в грубую ошибку, то есть считать войну невозможною и вследствие этого оставаться, как говорится, спустя рукава. <…>
Никитенко А.В. Дневник. Т. II.
М., 1956. С. 367—368
Е.А. Денисьева — А.И. Георгиевскому
Октябрь. 1863 г.
...Посылаю вам, милый Александр, стихи Тютчева, посвященные князю Суворову по случаю посылки образа Муравьеву в день его именин. Суворов, который всегда относился с непреодолимой антипатией к Муравьеву, заявил, что он не подаст руки никому из тех, кто подписал письмо, сопровождавшее образ. Стихи произвели большую сен сенсацию в Петерб., но не имели успеха в высших сферах, где, как вы знаете, еще больше не любят «людоеда».
Чулков Г. Последняя любовь Тютчева.
М., 1928. С. 114-115
<Из дневника А.В. Никитенко>
16 <ноября 1863 г.>. Суббота. <…> Напечатаны имена лиц, участвовавших в поднесении образа М.Н. Муравьеву в его именины. Тут всё аристократические имена, начиная графом Блудовым и оканчивая Помпеем Батюшковым. Гуманнейшему генерал-губернатору Суворову было предложено тоже участвовать в этом деле. Он отказался, сказав, что не может сделать этой чести такому людоеду, как Муравьев. О, гуманнейший генерал-губернатор! Как вы глупы! Неужели вы думаете, что бунты могут быть укрощаемы гуманными внушениями, наподобие назимовских, а не казнями? <…>
Тютчев написал, говорят, прекрасные стихи по поводу отказа гуманнейшего генерал-губернатора от участия в поднесении образа Муравьеву. <…>
17. Воскресенье. Польская свобода не стоит того, чтобы сами поляки так дорого за нее платили. Как ужиться польскому элементу с русским, — вот вопрос. <…>
Никитенко А.В. Дневник. Т. II.
М., 1956. С. 377
<Из дневника М.Ф. Тютчевой>
Петербург. 1864 г.
 16/28 января. <…> Вечер провела у Паниных, <…> была там с папа.
16/28 января. <…> Вечер провела у Паниных, <…> была там с папа.
20 января/1 февраля. <…> Папа обедал у Ел<ены> Павл<овны>.
21 января/2 февраля. <…> Папа обедал у Блудовых.
23 января/4 февраля. <…> Сегодня огромный бал у княгини Кочубей.
24 января/5 февраля. Слушала рассказы папа о великолепиях вчерашнего бала, у него, между прочим, нога болит.
25 января/6 февраля. Папа хуже сегодня, он целый день пробыл дома.
26 января/7 февраля. Мама пробыла всю ночь на ногах. Папа лучше, но ночью у него был жар. <…> Пришел Полонский, за ним Вл<адимир> Ник<олаевич> Кар<амзин>, за ним Толбухин, а там Гильфердинг.
28 января/9 февраля. Тургенев был и просидел довольно долго. <…> Полонский обедал и читал свою драму «Разлад» (которую начал в Овстуге), Ковалевский пришел и слушал, только не все время. <…>
16/28 марта. Раут у Горчакова.
17/29 марта. Папа обедал у кн. Горчакова.
19/31 марта. Папа был в концерте.
20 марта/1 апреля. Вечер у Елены Павловны <…> Папа, Анна, Катя — все там.
21 марта/2 апреля. Папа обедал у кн. Кочубей. <…> Сегодня Полонский читает свою драму у Валуева. Папа отвез туда его и Майкова. <…>
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 344, 347
<Из дневника А.В. Никитенко>
22 <марта 1864 г.>. Воскресенье. <…> Был у меня Тютчев Ф.И. Его назначили членом Совета по делам печати, и он хотел со мною посоветоваться насчет тамошних дел. Он, между прочим, сказал мне, что <А. М.> Горчаков сильно отсоветовал государю не делать праздника по поводу взятия Парижа 19 марта. Тютчев думает так же, как и я, что война неизбежна. <…>
Никитенко А.В. Дневник. Т. II.
М., 1956. С. 424
<Из дневника М.Ф. Тютчевой>
Петербург. 1864 г.
24 марта/5 апреля. Полонский дочитал мне «Призраки». Папа вернулся, разговор сделался общим и об общих вопросах.
30 марта/11 апреля. Папа был у Горчакова на рауте.
2/14 апреля. Папа обедал у Napier.
3/15 апреля. Папа обедал у Елены Павловны.
5/17 апреля. Папа обедал у Горчакова.
7/19 апреля. Сегодня большой обед у Лазаревых, от которого я отказалась. Папа один был.
11/23 апреля. Сегодня был обед в Думе для поляков, они и русские сочувствовали. Государь произнес тост за неразрывный союз России с Польшей. Папа, Дима и Желиховский присутствовали на обеде.
13/25 апреля. Вечер провела с папа у Мещерских.
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 347
<Из дневника А.В. Никитенко>
21 <мая 1864 г.>. Четверг. <…> Заседание в Совете по делам печати. Мы с Тютчевым тщетно старались защитить статью Страхова для «Эпохи»: невежество и глупость большинства одержали верх. <…> Надобно признаться, что цензура находится в руках людей, глубоко невежественных. Особенно вредит ей председательство в комитете такого человека, как Турунов, который в литературе и науке ничего не смыслит и как самый пошлый чиновник смотрит на них. <…>
Мы долго рассуждали с Тютчевым о печальной судьбе дел, вверяемых таким государственным людям.
Дело сделалось: кн. Горчаков показывал государю доставленную от меня через Тютчева брошюру, написанную Головниным о его проектах и представлениях, не утвержденных государем или Государственным советом. На государя это сделало, видимо, неприятное впечатление. Он заметил, что уже слышал об этом.
Никитенко А.В. Дневник. Т. II.
М., 1956. С. 440-441
А.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой
<Царское Село>. 6/<18> мая 1863 г.
Папа <…> написал мне очень нежную записку; он успокаивает меня по поводу своего здоровья и просит, чтобы я не приезжала к нему, что он окружен самой нежной заботой и было бы низостью с его стороны не сказать мне об этом. <…>
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 337
Эрн. Ф. Тютчева — Д.Ф. Тютчевой
Овстуг. 16/28 июня 1863 г.
<…> Он был очень болен без меня, и хотя болезнь эта не была опасна, меня приводило в отчаяние то, что я не могла заботиться о нем. Жизнь идет, и в нашем возрасте здоровье быстро уходит, а эти долгие месяцы разлуки уносят его лучшую часть.
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 337
Д.И. Сушкова — Е.Ф. Тютчевой
<Москва>. 20 июня/<2 июля> 1863 г.
<…> Я к Федору не поеду, поскольку известная особа (Денисьева Е.А. — Ред.) сохраняет место, ею захваченное. Николай (брат Тютчева. — Ред.) ее видел, но не говорит об этом ни слова, хотя создавшееся положение раздражает и сердит его. <…>
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 337
<…> С того времени много воды утекло, но Леля все еще до крайности тяготилась своим ненормальным, своим фальшивым положением, необходимостью скрывать от детей (старшей, также Леле, было уже 10 лет, когда я с ними познакомился, младшему Феде лет шесть), что отец их не жил с ними вместе, что у него был свой дом, своя другая семья, признаваемая законом и обществом. <…> «А мне, — продолжала Леля, еле сдерживая рыдания, — нечего скрывать и нет надобности ни от кого прятаться: я более ему жена, чем бывшие его жены, и никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я его люблю и ценю, никогда никто его так не понимал, как я его понимаю — всякий звук, всякую интонацию его голоса, всякую его мину и складку на его лице, всякий его взгляд и усмешку; я вся живу его жизнью, я вся его, а он мой: «и будут два в плоть едину», а я с ним и дух един. Не правда ли? — обращалась она ко мне, — ведь вы согласны со мной? Ведь в этом и состоит брак, благословенный самим Богом, чтобы так любить друг друга, как я его люблю и он меня, и быть одним существом, а не двумя различными существами? Не правда ли, ведь я состою с ним в браке, в настоящем браке?» <…> «Разве не в этом полном единении между мужем и женою заключается вся сущность брака, — продолжала она меня убеждать, заливаясь слезами, — и неужели церковь могла бы отказать нашему браку в своем благословении? Прежний его брак уже расторгнут тем, что он вступил в новый брак со мной, а что он не просит для этого своего брака церковного благословения, то это лишь потому, что он уже три раза женат, а четвертого брака церковь почему-то не венчает, на основании какого-то канонического правила». <…> «Богу угодно было, — говорила она мне, — возвеличить меня таким браком, но вместе и смирить меня, лишив нас возможности испросить на этот брак церковное благословение, и вот я обречена всю жизнь оставаться в этом жалком и фальшивом положении, от которого и самая смерть Эрнестины Федоровны не могла бы меня избавить, ибо четвертый брак церковью не благословляется. Но так Богу угодно, и я смиряюсь перед его святою волею, не без того, чтобы по временам горько оплакивать свою судьбу». <…>
<…> Леля настаивала, чтобы детей ее записывали в метрическую книгу не иначе, как Тютчевыми, и так как Феодор Иванович изъявлял священнику свое на то согласие, то желание ее и было всегда исполняемо <…> так, не принимая во внимание, что при этом об отце вовсе не было помину, а прописывалась только мать под своим девическим фамильным именем, и не зная, что подобный акт не сообщал детям прав состояния их отца и они могли быть приписаны только к мещанскому или крестьянскому сословию и никаких прав по происхождению не приобретали. Перед рождением третьего ребенка Феодор Иванович пробовал было отклонить Лелю от этого; но она, эта любящая, обожающая его и вообще добрейшая Леля пришла в такое неистовство, что схватила с письменного стола первую попавшуюся ей под руки бронзовую собаку на малахите и изо всей мочи бросила ее в Феодора Ивановича, но, по счастью, не попала в него, а в угол печки и отбила в ней большой кусок изразца: раскаянию, слезам и рыданиям Лели после того не было конца. <…> Сам Феодор Иванович относился очень добродушно к ее слабости впадать в такое исступление из любви к нему... <…> У нее была еще одна слабость также не очень приятного свойства: именно, когда, бывало, она разворчится на провинившихся в чем-нибудь маленькую Лелю и Федю, то этому конца не было, и тогда уже Тютчев выходил из себя и кричал на нее: «Finissez-donc, vous membetez par vos sermonts indefinis! On punit les enfants, s'ils sont coupables, et tout est dit, mais on ne doit pas les grander durant toute une heure!» («Да перестаньте же; вы надоедаете мне своими бесконечными нравоучениями! Детей наказывают, если они провинились, и этого достаточно, но нельзя же их бранить целыми часами!» — Фр.) .
Феодор Иванович далеко не был то, что называется добряк; он и сам был очень ворчлив, очень нетерпелив, порядочный брюзга и эгоист до мозга костей, которому дороже всего было его спокойствие, его удобства и привычки. Такое заключение я вывел из очень частых моих свиданий с ним и Лелей и потом с ним одним. <…>
А.И. Георгиевский. Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 110-112
<…> Как захваченный водоворотом, он бесцельно метался в заколдованном круге нелепых, тяжелых, подчас унизительных условий созданного им самим положения, являясь в одно и то же время и палачом и жертвой, и когда через 14 лет он потерял ту, которую так безумно и страстно любил, не был уже способен ни на какую активную деятельность. Смерть любимого человека, по собственному его меткому выражению, «сломившая пружину его жизни» (подстрочный перевод фразы его французского письма. — Ред.), убила в нем даже желание жить, и последние девять лет он просуществовал под постоянным нестерпимым гнетом мучительного позднего раскаяния за загубленную жизнь той, кого он любил и так безжалостно сгубил своей любовью, и под затаенным, но тем не менее страстным желанием поскорее уйти из этого надоевшего ему мира. <…>
Тютчев Ф.Ф. Кто прав? Роман, повести, рассказы.
М.: Современник, 1985. С. 500-501
Е.Ф. Тютчева — Д.И. Сушковой
<Кенигсберг>. 20 июля/1 августа <1864 г.>
<…> Папа вернулся домой в 9 часов, мы вместе пили чай; он печален и подавлен, так как m-lle Д<енисьева> очень больна, о чем он сообщил мне полунамеками; он опасается, что она не выживет, и осыпает себя упреками. <…> Со времени его возвращения из Москвы (5/17 июля. — Ред.) он никого не видел и все свое время посвящает уходу за ней. Бедный отец! <…>
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 350
Д.И. Сушкова — Е.Ф. Тютчевой
<Москва>. 23 июля/<4 августа> 1864 г.
Поверь мне, болезнь Д<енисье>вой не так серьезна, как воображает твой отец; мне кажется, она преувеличивает свои страдания, чтобы крепче привязать его к себе. Но в любом случае он достоин всяческого сожаления.

Е.А. Денисьева с дочерью Еленой.
Фотография. 1862-1863 гг.
<Москва>. 4/<16> августа 1864 г.
<…> Косвенно мы узнали, что последние его тревоги рассеялись — здешние родственники спокойны и невозмутимы (в день написания письма Е.А. Денисьева скончалась. — Ред.).
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 350
Е.Ф. Тютчева — Д.И. Сушковой
Аркашон. 19/31 августа 1864 г.
<…> Она умерла 4 августа. Упокой, Господи, ее бедную душу, по-видимому, много страдавшую, раз она так быстро изнурила тело. Анна говорит, что бедный папа никаких подробностей не сообщает, что все его письмо — вопль раскаяния и что он поручает нам своих детей. <…> У меня так болит сердце за него! Бедная душа его в таком смятении... <…> Бедный старик! Так горько чувствовать себя виновным перед покойницей. <…>
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 350-351
<…> Я вдруг был поражен воплем отчаяния, раздавшимся из Петербурга от Ф.И. Тютчева.
«Все кончено, — писал он мне от 8 августа 1864 г., — вчера мы ее хоронили...
Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу — не знаю... Во мне все убито: мысль, чувство, память, все... Я чувствую себя совершенным идиотом.
Пустота, страшная пустота. И даже в смерти — не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...
Сердце пусто — мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней — вызвать ее, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.
Страшно, невыносимо. Писать более не в силах, да и что писать?.. Ф. Тчв».
Я и Мари, оба мы были сильно поражены этим неожиданным известием о смерти нашей дорогой Лели, последовавшей 4 августа, и тем отчаянием, в какое она, очевидно, повергла Феодора Ивановича. Мы понимали всю безвыходность его положения в настоящем случае и невозможность найти себе какое-либо утешение в ее тетушках или же искать его в посторонних лицах. Мы тут же решили, что я отправлюсь в Петербург и попытаюсь сколько-нибудь приободрить нашего доброго друга. План этот был тем более осуществим, что неделя оканчивалась праздником Успения Пресвятой Богородицы, и таким образом два дня сряду были у меня свободны. Я поспешил об этом уведомить Феодора Ивановича и получил от него следующий ответ:
«С.-Пет<ербург>. Четверг. 13 августа.
О приезжайте, приезжайте, ради бога, и чем скорее, тем лучше! Благодарю, от души благодарю вас! Авось либо удастся вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя, этот жгучий камень, который давит и душит меня... Самое невыносимое в моем теперешнем положении есть то, что я с всевозможным напряжением мысли, неотступно, неослабно, все думаю и думаю о ней, и всетаки не могу уловить ее... Простое сумасшествие было бы отраднее...
Но... писать об этом я все-таки не могу, не хочу — как высказать эдакий ужас!
Но приезжайте, друг мой Александр Иваныч! Сделайте это доброе христианское дело. Жду вас к воскресенью. Вы, разумеется, будете жить у меня. Привезите с собою ее последние письма к вам.
Обнимаю милую, родную Марью Александровну и детей ваших.
Страшно, невыносимо тяжело. Весь ваш Ф. Т<ют>ч<е>в». <…>
Я много думал о том, как бы мне размыкать его горе; дело это было очень нелегкое, тем более, что Феодор Иванович, глубоко понимая все значение религии в жизни отдельных людей и целых народов, и всего человечества и высоко ценя и превознося нашу православную церковь, сам был человек далеко не религиозный и еще менее церковный: никакие изречения из священного писания или из писаний отцов церкви, столь отрадные для верующего человека и столь способные поддержать и возвысить его дух, в данном случае не оказались бы действительны.
Глубокая религиозность самой Лели не оказала совсем никакого влияния на Феодора Ивановича. Я и не пробовал прибегать с ним к такого рода утешениям, а избрал совсем другой способ врачевания. Хотя я знал Лелю очень недолгое время и сравнительно очень мало, тем не менее я питал к ней самое живое и искреннее сочувствие, очень сошелся с ней и старался вникнуть во все особенности ее настроения и ее образа мыслей во всем, что касалось до Феодора Ивановича и ее к нему отношений. Она и была неистощимым источником наших разговоров. Для Феодора Ивановича было драгоценною находкой иметь такого собеседника, который так любил и так ценил его Лелю, который уже успел составить о ней довольно верное представление и который так дорожил всеми подробностями ее характера, ее воззрений и всей богатой ее натуры. В этих беседах со мною Феодор Иванович по временам так увлекался, что как бы забывал, что ее уже нет в живых. В своих о ней воспоминаниях он нередко каялся и жестоко укорял себя в том, что, в сущности, он все-таки сгубил ее и никак не мог сделать ее счастливой в том фальшивом положении, в какое он ее поставил. Сознание своей вины несомненно удесятеряло его горе и нередко выражалось в таких резких и преувеличенных себе укорах, что я чувствовал долг и потребность принимать на себя его защиту против него самого; но, по свойственной человеческой природе слабости, не было недостатка и в попытках к самооправданию. Так, например, Феодор Иванович указывал, что Леле было уже лет двадцать пять, когда они сошлись между собою, что она много вращалась и прежде в таком легкомысленном и ветреном обществе, какое собиралось у Политковских или у графа Кушелева-Безбородко, где была всегда окружена массою поклонников, в числе которых был и такой сердцеед, как граф Владимир Александрович Соллогуб, и т.д. С моей точки зрения, во всяком случае главным виновником был все-таки сам Феодор Иванович, как мужчина, притом же на 20 лет слишком старший (род. 23 ноября 1803 г.), женатый, <…> занимавший видное положение в большом свете и тем более губивший жертву их взаимного увлечения. Несомненно также, что при всех исключительных качествах своего ума, при всем своем поэтическом даровании и основательном, высоком и многостороннем утонченном образовании и при всей ни с чем не сравнимой прелести и обаятельности своей беседы, Феодор Иванович был всетаки большой эгоист и никогда даже не задавался вопросом о материальных условиях жизни Лели, которая все время жила на счет своей тетушки — maman, живя у нее и с нею. <…> Сама Леля не допустила бы никогда, чтобы между нею и обожаемым ею Феодором Ивановичем мог быть замешан какой-нибудь материальный вопрос: ей нужен был только сам Тютчев и решительно ничего, кроме него самого. Она легко мирилась со своей более чем скромной жизнью, а при большом ее вкусе, хотя одевалась она совершенно просто, скорее даже бедно, она умела быть изящнейшим во всех отношениях существом <…>
Только своею вполне самоотверженною, бескорыстною, безграничною, бесконечною, безраздельною и готовою на все любовью могла она приковать к себе на целых 14 лет такого увлекающегося, такого неустойчивого и порхающего с одного цветка на другой поэта, каким был Тютчев, — такою любовью, которая готова была и на всякого рода порывы и безумные крайности с совершенным попранием всякого рода светских приличий и общепринятых условий. Это была натура в высшей степени страстная, требовавшая себе всего человека, а как мог Феодор Иванович стать вполне ее, «настоящим ее человеком», когда у него была своя законная жена, три взрослые дочери и подраставшие два сына и четвертая дочь. <…>

Ф.И. Тютчев. Фотография И. Робийяра.
Петербург. 1862 г.
Я сильно убеждал его ехать вместе со мной в Москву, где он имел бы такую же постоянную собеседницу о Леле, столько же ее любившую, как и я, в лице моей Мари. <…> Он сильно колебался между поездкой в Москву вместе со мною и поездкой в Швейцарию и Италию, к чему склоняли его другие. В конце концов он решился ехать за границу. <…>
Впоследствии он писал мне из Ниццы от 10/22 декабря 1864 г.: «Роковой была для меня та минута, в которую я изменил свое намерение ехать с вами в Москву... Этим я себя окончательно погубил. Что сталось со мною? Чем <стал> я теперь? Уцелело ли что от того прежнего меня, которого вы когда-то, в каком-то другом мире — там, при ней, знавали и любили? — не знаю. Осталась обо всем этом какая-то жгучая, смутная память, но и та часто изменяет, — одно только присуще и неотступно — это чувство беспредельной, бесконечной, удушающей пустоты. О, как мне самого себя страшно!» <…>
А.И. Георгиевский. Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 350-351
Е.Ф. Тютчева — Д.И. Сушковой
Аркашон. 2/14 сентября 1864 г.
(Цитирует письмо А.Ф. Тютчевой. — Ред.)
«...Когда он оставался один, злосчастное воображение его разыгрывалось, доводя его до безумия. Я не могу выразить то впечатление, которое он на меня произвел. Он постарел лет на пятнадцать, тело его превратилось в скелет. <…> Бедный папа! Знаете ли вы, что, когда я увидала его в этом состоянии совершенной раздавленности, мне пришло в голову, что ему самому недолго осталось жить». <…>
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 354
Е.Ф.Тютчева — Д.И. Сушковой
Женева. 28 сентября/10 октября <1864 г.>
<…> Его жена очень нежна с ним, и я верю, что в дальнейшем жизнь его станет лучше и спокойнее, чем прежде. Его сердце так кротко, душа исполнена такого смирения, а ум его так замечателен, что обращение его к Богу совершится непременно.
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 358
<Из дневника М.Ф. Тютчевой>
<Женева. 1864 г.>
2/14 октября. Папа был на каком-то собрании депутатов.
4/16 октября. Были в театре Varietes — папа, Кити, Ernestine и я. <…>
6/18 октября. После завтрака явился князь Вяземский, потом пошли к его жене.
11/23 октября. Превосходная погода. <…> Папа, вернувшись, продиктовал мне стихи («Утихла биза Легче дышит...». — Ред.).
Горы были видны, как на ладони.
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 358-359
Д.Ф. Тютчева — Е.Ф. Тютчевой
Ницца. 17/29 ноября <1864 г.>
Папа хорошо выглядит, по целым дням ездит с визитами, встречается со множеством людей, а в минуты, когда у него нет возможности развлекаться, говорит о своей печали.
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 361

Петербург. Большой (Каменный) театр.
Неизв. худ. 1810-е гг. Акварель
По поводу последнего моего свидания с Ф.И. Тютчевым в январе 64 года, не могу не приветствовать в моем воспоминании тени одного из величайших лириков, существовавших на земле. Я не думаю касаться его биографии, написанной, между прочим, зятем его Ив<аном> Серг<еевичем> Аксаковым. Тютчев сладостен мне не только как человек, более чем дружелюбно ко мне относившийся, но как самое воздушное воплощение поэта, каким его рисует себе романтизм. Начать с того, что Федор Иванович болезненно сжимался при малейшем намеке на его поэтический дар, и никто не дерзал заводить с ним об этом речи. Но как ни скрывайте благоуханных цветов, аромат их слышится в комнате, и где бы и когда бы вы ни встретили мягких до женственности очертаний лица Федора Ивановича с открытой ли головой, напоминающей мягкими и перепутанными сединами его стихи:
«Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах...»
или в помятой шляпе задумчиво бредущего по тротуару и волочащего по земле рукав поношенной шубы, — вы бы угадали любимца муз, высказывающего устами Лермонтова:
«Я не с тобой, а с сердцем говорю».
Было время, когда я раза три в неделю заходил в Москве в гостиницу Шевалдышева на Тверской в номер, занимаемый Федором Ивановичем. На вопрос: «дома ли Федор Иванович?» камердинер немец, в двенадцатом часу дня, — говорил: «он гуляет, но сейчас придет пить кофей». И действительно, через несколько минут Федор Иванович приходил, и мы вдвоем садились пить кофей, от которого я ни в какое время дня не отказываюсь. Каких психологических вопросов мы при этом не касались! Каких великих поэтов не припоминали! И, конечно, я подымал все эти вопросы с целью слушать замечательные по своей силе и меткости суждения Тютчева и упивался ими. Помню, какою радостью затрепетало мое сердце, когда, прочитавши Федору Ивановичу принесенное мною новое стихотворение, я услыхал его восклицание: «как это воздушно!»
 Зная, что в настоящее время он проживал в Петербурге, в доме армянской церкви, я сказал Як<ову> Петр<овичу> Полонскому, бывшему в самых интимных отношениях с Тютчевым, — о желании проститься с поэтом, отъезжающим, как я слышал, в Италию.
Зная, что в настоящее время он проживал в Петербурге, в доме армянской церкви, я сказал Як<ову> Петр<овичу> Полонскому, бывшему в самых интимных отношениях с Тютчевым, — о желании проститься с поэтом, отъезжающим, как я слышал, в Италию.
— Это невозможно, — сказал Яков Петр., — он в настоящее время до того убит роковой своей потерей, что только страдает, а не живет, и потому дверь его закрыта для всех.
— По крайней мере, — сказал я, — передай ему мой самый искренний поклон.
В первом часу ночи, возвращаясь в гостиницу Кроассана, я, вместе с ключом от номера, получил от швейцара записку. Зажигая свечу на ночном столике, я, при мысли сладко задремать над французским романом, намерен был предварительно, уже лежа в постели, прочесть и записку. Раскрываю последнюю и читаю: «Тютчев просит тебя, если можно, прийти с ним проститься». Конечно, я через минуту был снова одет и полетел на призыв. Безмолвно пожав руку, Тютчев пригласил меня сесть рядом с диваном, на котором он полулежал. Должно быть его лихорадило и знобило в теплой комнате от рыданий, так как он весь покрыт был с головою темно-серым пледом, из-под которого виднелось только одно изнемогающее лицо. Говорить в такое время нечего. Через несколько минут я пожал ему руку и тихо вышел.
Вот что позднее рассказывал Тургенев о своем свидании с Тютчевым в Париже:
«Когда Тютчев вернулся из Ниццы, где написал свое известное:
«О , этот юг, о, эта Ницца!..» — мы, чтобы переговорить, зашли в кафе на бульваре и, спросив себе из приличия мороженого, сели под трельяжем из плюща. Я молчал все время, а Тютчев болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшей от падавших на нее слез».
Афанасий Фет. Воспоминания. Т. 2.
М., 1890-1893. С. 3-5
<…> Федор Иванович, всю жизнь свою до последних дней увлекавшийся женщинами, имевший среди них почти сказочный успех, никогда не был тем, что мы называем развратником, донжуаном, ловеласом... Ничего подобного. В его отношениях не было и тени какой-либо грязи, чего-нибудь низменного, недостойного... даже в тех случаях, когда судьба сталкивала его с женщинами пошлыми и недостойными, он сам оставался нравственно чист и светел духом, как светел и чист солнечный луч, отражающийся в болотном окне. В свои отношения к женщинам он вносил такую массу поэзии, такую тонкую деликатность чувств, такую мягкость, что, как я выше и говорил, походил больше на жреца, преклоняющегося перед своим кумиром, чем на счастливого обладателя. Лучшие его стихотворения посвящены женщинам, но ни в одном из них вы не отыщете и тени чего-нибудь не только циничного, сладострастного, как, например, у Лермонтова и отчасти у Пушкина, но даже игривого, легкого, необдуманного. <…>
Я нарочно употребил слово «обожание», и хотя на первый взгляд и может показаться странным, как можно «обожать» несколько раз в жизни, но натура Федора Ивановича была именно такова, что он мог искренно и глубоко любить, со всем жаром своего поэтического сердца, и не только одну женщину после другой, но даже одновременно. <…>
Тютчев Ф.Ф. Кто прав? Роман, повести, рассказы.
М.: Современник, 1985. С. 499-501
<…> Нельзя не упомянуть, чем обязана наша поэзия этой «последней любви» Феодора Ивановича. Смертью Лели были навеяны <…> эти перлы даже среди других его произведений: «Есть и в моем страдальческом застое», «Опять стою я над Невой», «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло», «Нет дня, чтобы душа не ныла», «Вот бреду я вдоль большой дороги». А при жизни ее или прямо к ней обращены, или к ней относятся эти дышащие страстью, нежностью и глубокою любовью стихи: «Любовь, любовь — гласит преданье», «Последняя любовь», «Чему молилась ты с любовью», «О, не тревожь меня укорой справедливой», «Не говори, меня он как и прежде любит», «О, как убийственно мы любим», «В часы, когда бывает».
Да, он умел любить, как редко любят в наши дни, и, как редко кто, умел выражать свои чувства... Что Тютчев глубоко, искренно и долго скорбел об утрате Лели, в этом не может быть ни малейшего сомнения; но он был прежде всего человек увлечения и очень изменчивых настроений духа, и, к счастью для него, для русской поэзии и русского общества, умственные и политические интересы никогда не утрачивали для него своего значения. <…>
А.И. Георгиевский. Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 131
<…> Тютчев в то время был страшно удручен потерями дочери и особы, горячо им любимой. Я выразил ему мое соболезнование. Он почти со слезами благодарил меня и сказал: «Нет пределов моему страданью, и нет выше моей любви к той, которая дала мне столько счастья! Испытали ли вы такое состояние, когда все существо проникается, каждая вена, этим всеобъемлющим чувством? «И если загробная жизнь нам дана», — как говорит Баратынский, — я утешаю себя только загробным свиданием!.. Но ведь это утешение все-таки не примиряет с действительностью...» Радость бытия, какую испытывал Тютчев с его философским взглядом на жизнь, теперь не озаряла его лицо, сильно исхудавшее, со впалыми щеками, желтое, как воск. Крепко пожав мне руку на прощанье, он с грустью подал мне листок со стихами (может быть, экспромт) и сказал: «Вот вам на память... стон души!»
Заношу стихи здесь, так как они не вошли ни в одно из собраний стихотворений Тютчева.
Я не ценю красот природы,
Когда душа потрясена. <…>
(Полностью приводит стихотворение. — Ред.)
П.В. Быков. Тютчев Ф.И. в документах, статьях и
воспоминаниях современников. М., 1999. С. 151—152
Я позволю себе привести уместную здесь выдержку из письма ко мне П.С. Шереметева, который по моей просьбе расспрашивал свою мать, Екатерину Павловну Шереметеву, об ее знакомстве с Ф.И. Тютчевым. «Они жили тогда, — сообщает со слов своей матери П.С. Шереметев, — в Царском на Малой улице в большой даче Сибора (гр. О.Д. Шереметев и его супруга Е.П. Шереметева), прямо против ворот дворца. Однажды кн. П.А. Вяземский пришел обедать к моей матери и привел с собою Тютчева, приехавшего невзначай к нему в Царское. Так как обеда у Вяземских в этот день не было, то он и привел его. Они вошли вдвоем. Тютчев вошел со словами: «Ne me prenez pas pour un Tarta-a-ar...», произнося слова с большой растяжкой и разумея пословицу: незваный гость хуже татарина. Моя мать хорошо помнит, что в этот вечер она была не в духе и причиной был именно Тютчев. Не то, что он пришел без зова, разумеется, а у него была история, о которой тогда много говорили. Он увлекся институточкой, некоей Денисьевой, которая также влюбилась и вскоре умерла чахоткой. Все это очень возмущало мою мать, и она не могла даже скрыть своего негодования и была весьма мало любезна. Тютчев был уже старик. Мой отец был недоволен и говорил, что вся эта история нисколько ее не касается. Тютчев очень любезничал, стараясь обратить внимание на хозяйку дома, а ее коробило, что старичок рассыпается в любезностях. Ей было тогда 18 лет». Весь этот рассказ, несмотря на некоторые неточности, очень характерен для отношения тогдашнего светского общества к любовной истории Тютчева.
Чулков Г. Последняя любовь Тютчева.
М., 1928. С. 35-37
<Из записок А.Ф. Тютчевой>
Петербург. 1865
2/<14> июля. Вчера я провела день в Петербурге, потому что папа очень страдает от подагры и вынужден оставаться в постели, что приводит его в очень дурное настроение. Он сделал мне ряд колких замечаний о девицах, которые не выходят замуж, и о невыносимости и глупости моего существования при дворе. Тем не менее, я не испытываю ни малейшей потребности поделиться с ним тем, что сейчас занимает меня. Наоборот, мне неприятно думать о минуте, когда я должна буду сказать ему об этом. Сперва он будет очень рад, потому что ему хочется видеть меня замужем и он очень досадует, что я столько лет запряжена в однообразное, тусклое, исполненное тяжелого труда существование. Но как только минует первая минута удовлетворения, он захочет применить к Аксакову и ко мне, к нашим взаимным чувствам, к нашим характерам, к нашим планам на будущее скальпель своего анализа, всегда тонкого и остроумного, но чрезвычайно тлетворного, потому что анализ этот зиждется на принципе исключительно человеческом, скептическом и негативном. О том, что составляет основу наших чувств и наших отношений, я никогда не смогу и не захочу ему сказать, так как он этому не поверил бы и не понял бы этого. В браке он не видит и не допускает ничего, кроме страсти, и признает его приемлемость лишь пока страсть существует. Никогда он не признал бы, что можно поставить выше личного чувства долг и ответственность перед Богом в отношении мужа к жене и жены к мужу и что понятый таким образом брак освящен и способствует нравственному возвышению. Я никогда не могу говорить о своем сокровенном с отцом, и потому, несмотря на привязанность его ко мне и мою к нему, несмотря на все хорошее, что я признаю в нем, я чувствую себя так глубоко и непоправимо чуждой ему.
Литературное наследство. Т.97.
Федор Иванович Тютчев. Кн. 2. М., 1989, С. 375