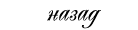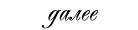Б.Н. Тарасов «Неопознанный Тютчев»
ИСТОРИОСОФИЯ Ф.И. ТЮТЧЕВА В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ
II
«Недостатки охранителей обращаются в оружие разрушителей...»
«Тайна человека» и «Письмо о цензуре в России» Ф.И. Тютчева
2
Описанная в предшествующем разделе историософская логика составляет основу публицистики Тютчева, проступает в его политических статьях и придает им истинный масштаб и непреходящее значение. Наглядным свидетельством тому является и его «Письмо о цензуре в России», составленное по вполне конкретному поводу, но рассматривающее актуальные вопросы в свете глубинных закономерностей духовного мира человека и творимого им исторического бытия. «Письмо...» занимает свое особое место среди разнородных официальных, полуофициальных и анонимных записок, писем, статей, получивших широкое распространение с началом царствования Александра II (в ряде случаев они были прямо обращены к царю), критиковавших сложившееся положение вещей в общественном устройстве и государственном управлении и обсуждавших различные вопросы их реформирования. «Историко-политические письма» М.П. Погодина, «Дума русского во второй половине 1855 г.» П.А. Валуева, «О внутреннем состоянии России» К.С. Аксакова, «О значении русского дворянства и положении, какое оно должно занимать на поприще государственном» H.A. Безобразова, «Восточный вопрос с русской точки зрения», «Современные задачи русской жизни», «Об аристократии, в особенности русской», «Об освобождении крестьян в России» - эти и подобные им произведения так называемой рукописной литературы, принадлежавшие перу К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина, H.A. Мельгунова, А.И. Кошелева, Ю.Ф. Самарина и многих других представителей самых разных идейных течений, в большом количестве списков расходились по всей стране. Встречались такие, в которых непосредственно рассматривались возможные изменения в области цензуры и печати, например, «Записка о письменной литературе», отражавшая взгляды К.Д. Кавелина, братьев Милютиных и других либералов, или подготовленное П.А. Вяземским для императора «Обозрение современной литературы», утверждавшее полезность для страны критического направления в журналистике и одновременно - необходимость разумной правительственной опеки над «благонамеренной гласностью». Первоначальный период послениколаевской эпохи И.С. Аксаков характеризовал как «эпоху попыток, разнообразных стремлений, движения вперед, движения назад; эпоху крайностей одна другую отрицающих, деспотизма науки и теории над жизнью, отрицания науки и теории во имя жизни; насилия и либерализма, консервативного прогресса и разрушительного консерватизма, раболепства и дерзости, утонченной цивилизации и грубой дикости, света и тьмы, грязи и блеску! Все в движении, все в брожении, все тронулось с места, возится, копошится, просится жить!»
В этом хаотическом брожении умов и столкновении различных проектов обновления социальной жизни автора «Письма...» можно отнести к представителям консервативного прогресса, ратовавшим за эволюционные, а не революционные изменения. Не выражая сомнений в христианских основах и нравственных началах самодержавия, а, напротив, стремясь укрепить их, он полагал, что «пошлый правительственный материализм», «убийственная мономания», боязнь диалога с союзниками, недоверие к народу, стремление в идейной борьбе опираться лишь на грубую силу подтачивали открытую и незамутненную мощь христианской империи, давали козыри ее противникам, служили не альтернативой, а пособничеством «революционному материализму». Среди подобных следствий «правительственного материализма» Тютчев особо выделял чрезмерный произвол по отношению к печати, жертвами которого зачастую становились не столько либерально-демократические, сколько славянофильские издания. В русле расширения, по инициативе правительства, гласности «в пределах благоразумной осторожности» и появления массы новых изданий единомышленники Тютчева открывали во второй половине 50-х годов свои журналы и газеты («Русская беседа», «Молва», «Сельское благоустройство», «Парус»), которые претерпевали цензурные сокращения и задержки и в конечном итоге закрывались. Славянофилы признавали самодержавие одним из главных исконных устоев русской жизни, укреплять который способна свобода совести и слова, преодолевающая убийственный для него чиновничий произвол и казенную рутину. Однако самовластная бюрократия оказывалась сильнее, и позднее, 3 апреля 1870 г., Тютчев писал дочери Анне: «Намедни мне пришлось участвовать в почти официальном споре по вопросу о печати, и там было высказано - и высказано представителем власти - утверждение, имеющее для некоторых значение аксиомы, - а именно, что свободная печать невозможна при самодержавии, на что я ответил, что там, где самодержавие принадлежит лишь государю, ничто не может быть более совместимо, но что действительно печать, - так же, как и все остальное, - невозможна там, где каждый чиновник чувствует себя самодержцем».
Для понимания внутренней логики «Письма...» важно иметь в виду происходивший во второй половине XIX в. своеобразный поиск адекватного отношения к нарождавшимся в России феноменам общественного мнения, гласности, свободы журналистики. В осмыслении взаимоотношений государства и общества через посредничество печатного слова Тютчев своеобразно солидаризировался с такими, например, правительственными деятелями, как в 60-е годы П.А. Валуев или позднее К.П. Победоносцев. До известной степени и в фундаментальных вопросах они являлись как бы единомышленниками поэта по прогрессивному консерватизму (хотя в определенных обстоятельствах он нередко и резко критиковал конкретные действия П.А. Валуева) и рассматривали прессу как новую неоспоримую силу, становящуюся универсальной формой цивилизации и действующую в условиях падения высших идеалов, исторических авторитетов и, говоря словами самого поэта, «самовластия человеческого Я» (при этом сознательно или бессознательно, но закономерно превращающуюся в инструмент подобных процессов). В документах разных годов, в том числе и в записке «О внутреннем состоянии России», П.А. Валуев подчеркивал: «При самом даже поверхностном взгляде на современное направление общества нельзя не заметить, что главный характер эпохи заключается в стремлении к уничтожению авторитета. Все, что доселе составляло предмет уважения нации: вера, власть, заслуга, отличие, возраст, преимущества, - все попирается: на все указывается как на предметы, отжившие свое время (...) Наша пресса вся целиком в оппозиции к правительству. Органы прессы являются или открытыми и непримиримыми врагами, или очень слабыми и недоброжелательными друзьями, которые идут дальше целей, какие ставит себе правительство. Его собственные органы неспособны или парализованы (...) Россия представляет первый пример страны, где действие политической печати допускается без противовеса».
В такой парадоксально складывавшейся для самодержавного государства ситуации оппозиционные либеральные, демократические, революционные, легальные и нелегальные издания в России и за рубежом получали и известные моральные преимущества, ибо сосредотачивались на критике реальных недостатков и злоупотреблений существовавшего строя, хотя в своей положительной программе исходили из идеологической риторики невнятного гуманизма и прогресса, утопически уповавшей на внешние общественные изменения, что приводило впоследствии (без учета подчеркнутого Тютчевым антропологического фактора, несовершенной и греховной природы человека) к кровавым революциям, гражданским войнам, упрощению и примитивизации отношений между людьми в цивилизационном процессе. Такая критика при такой «положительной» программе предполагала соответствующий подбор известий и фактов, их сокращение, поворачивание и освещение с тех сторон, которые требовались не полнотой истины, а политическими, идейными, материальными, финансовыми, личными интересами. «Сочиняя» на этой основе общественное мнение, пресса затем «отражает» и проповедует его, формируя тем самым замкнутый круг (оторванный от всего многообразия социальных «голосов») и оказывая на людей огромное влияние без должной легитимности (в тютчевском понимании этого слова). Отсутствие в газетной деятельности, манипулирующей заколдованно отдающимся в ее власть человеком, достаточных нравственных оснований и подлинной легитимности подчеркивал Н.В. Гоголь: «Люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, - и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством!» К.П. Победоносцев, вопрошая, кто дал права и полномочия той или иной газете от имени целого народа, общества и государства возносить или ниспровергать, провозглашать новую политику или разрушать исторические ценности, замечал: «Никто не хочет вдуматься в этот совершенно законный вопрос и дознаться в нем до истины; но все кричат о так называемой свободе печати, как о первом и главнейшем основании общественного благоустройства (...) Нельзя не признать с чувством некоторого страха, что в ежедневной печати скопляется какая-то роковая, таинственная, разлагающая сила, нависшая над человечеством». Эта сила ссылается на читательский «спрос», навязываемый ее же ретивым «предложением», которое превращается из свободы в деспотизм печатного слова, уравнивает «всякие углы и отличия индивидуального мышления», отучает от самостоятельного мнения, в массе передаваемых сведений становится источником мнимого знания и образования, рассчитывает с помощью рыночных талантов и привлекательно-шокирующей информации «на гешефт» и на удовлетворение «низших инстинктов», а не «на одушевление на добро». В результате «никакое издание, основанное на твердых нравственных началах и рассчитанное на здравые инстинкты массы, - не в силах будет состязаться с нею». Победоносцев признавал огромное значение печати как значительного явления культуры, средства обмена мыслями, распространения идей, влияния на людей, как «характерного признака нашего времени, более характерного, нежели все изумительные открытия и изобретения в области техники», и вместе с тем подчеркивал: «Нет правительства, нет закона, нет обычая, которые могли бы противостоять разрушительному действию печати в государстве, когда все газетные листы его изо дня в день, в течение годов повторяют и распространяют в массе одну и ту же мысль, направленную против того или другого учреждения».
Подобно К.П. Победоносцеву и П.А. Валуеву, Тютчев ясно представлял себе изначальную двойственность и слабую легитимность печатного слова, его внутреннюю оппозиционность и потенциальную разрушительность (эту роль «типографического снаряда» подчеркивал и Пушкин), склонность опираться на не лучшие свойства человеческой природы и т.п. Поэтому необходимость «ограждать общество от действительно вредного и предосудительного» не вызывала у него как у цензора Министерства иностранных дел с 1848 г. и председателя Комитета иностранной цензуры с 1858 г. никаких сомнений. В его представлении такая деятельность может только тогда приносить действительную пользу, а не вред, если возглавляется и исполняется по-настоящему многознающими, мудрыми, честными, ответственными людьми, сообразующимися не с пристрастиями и фобиями вышестоящего начальства, а с Истиной и Делом, не с буквой устаревших инструкций, а «с разумом закона, требованиями века и общества». И такие цензоры, помимо Тютчева, стали появляться в лице Н.И. Пирогова, И.А. Гончарова, В.Н. Бекетова, А.Н. Майкова, Я.П. Полонского и им подобных. (О себе и таких цензорах он писал в стихах, что «стоя на часах у мысли», они «не арестантский, а почетный держали караул при ней!») Хотя в целом господствовали другие, и в одном из писем поэт замечал: «Недавно у меня были мелкие неприятности в министерстве, все по поводу этой злосчастной цензуры. Конечно, в этом не было ничего особенно важного... На развалинах мира, который обрушится под тяжестью их глупостей, они, по роковому закону, останутся жить и умирать в постоянной безнаказанности их идиотизма. Что за отродье, боже мой! Однако, чтобы быть вполне искренним, я должен сознаться, что эта беспримерная, эта ни с чем не сравнимая недалекость не опечаливает меня за судьбу самого дела настолько, насколько казалось должна бы опечалить. Когда видишь, насколько все эти люди лишены всяких мыслей и всякой сообразительности, следовательно и всякой самодеятельности - становится невозможным приписывать им малейшее участие в чем-либо: в них можно видеть только безвольные колесики, приводимые в движение невидимой рукой».
За шесть лет до своей кончины Тютчев был вынужден констатировать (несмотря на благие намерения и реформаторские усилия правительства): «Для совершенно честного, совершенно искреннего слова в печати требуется совершенно честное и искреннее законодательство по делу печати, а не тот лицемерно-насильственный произвол, который теперь заведывает у нас этим делом». По наблюдению поэта, этот произвол и тяжести цензорских «глупостей» сковывали силы легитимной и «разумно-честной печати», стремившейся искренне и свободно, верой и правдой служить (а не прислуживаться, тем самым дискредитируя ее) «христианской империи», терявшей своих талантливых сотрудников и не имевшей возможности свободно состязаться с либерально-демократическими и революционными изданиями на «твердых нравственных началах» и на гораздо более трудных, нежели критически-разоблачительных, но единственно плодотворных, говоря его словами, «положительно разумных» основаниях.