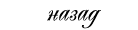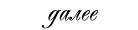Б.Н. Тарасов «Неопознанный Тютчев»
ИСТОРИОСОФИЯ Ф.И. ТЮТЧЕВА В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ
I
Бог, человек и история,
Россия, Европа и революция
1
Пушкин подчеркивал, что поэта должно судить по законам его собственного творчества. То же самое можно отнести и к мыслителю, каковым в историософской публицистике является поэт Тютчев, неповторимо и органично сочетающий в ней «злободневное» и «непреходящее», оценивающий острые проблемы современности sub speciae aeternitatis, в контексте первооснов человеческого бытия и «исполинского размаха» мировой истории. По словам И.С. Аксакова, «Откровение Божие в истории всегда могущественно приковывало к себе его умственные взоры». В историософской системе поэта мир относительного (государственного, общественного или идеологического) подчинен миру абсолютного (религиозного), а христианская метафизика определяет духовно-нравственную антропологию, от которой, в свою очередь, зависит подлинное содержание социально-политической деятельности.
«Великий тайнозритель природы, - заключает богослов и историк, протоиерей Г. Флоровский, - Тютчев и в истории оставался прозорливцем. Политические события были для него тайными знаками, символами подспудных процессов в глубинах. По ним он разгадывал последние тайны исторической судьбы... История обращалась для него в Апокалипсис». Именно прозорливость такого рода, основанная на проницании «подспудных процессов в глубинах», которые «невидимо» связаны с текущими событиями и явлениями на поверхности социальной жизни и претворяют их в тот или иной результат и исход, давала поэту возможность предсказывать совершившиеся, совершающиеся на наших глазах или ожидающие будущие поколения исторические повороты. Он признавался, что связывать прошлое и настоящее, так сказать, на больших расстояниях, совмещать время и вечность, уяснять возможные судьбы человеческого рода есть настоятельная потребность его существа. «Ближайший исход так же невозможно предугадать, - писал он об историческом процессе, - как нельзя предугадать, какая будет погода через неделю, но что касается окончательного результата, то это совсем иное: он может быть вычислен, как вычисляют затмение, которое произойдет через пятьсот лет».
Такая «дальнозоркая» методология (с исполинским размахом ее временных рамок и глубинным христианским контекстом) оказывается принципиально антиутопичной, в высшем смысле реалистичной и, если угодно, по большому счету прагматичной, позволяет угадывать и не столь отдаленные исходы и верно оценивать конкретику текущей жизни. Гоголь, осуждая либерально-позитивистскую мировоззренческую и идеологическую предвзятость и узость и словно присоединяясь к Тютчеву, обращался к современному историку: «Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои - гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, - и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие».
Тютчевская методология чрезвычайно важна сегодня, когда формируется имперская реальность, зачастую не видимая, с одной стороны, за лукавой пропагандой демократии, прав человека, национального самоопределения, а с другой, скрывающаяся сама по себе за замаскированной политикой двойных стандартов, хитроумной борьбой за мировые ресурсы, информационным насилием, плутократическими интересами и т.д. Реальность эта никак не характеризуется четко ни в духовно-нравственных, ни в геополитических, ни в социально-исторических измерениях. Между тем вся мировая история не что иное, как соперничество тех или иных мировых империй, включая и последние два века (Наполеон, Россия, Англия, Турция, Австро-Венгрия, Бисмарк, Гитлер, СССР, США), несмотря на пропагандируемые теми или иными идеологами и внедряемые теми или иными государствами идеи демократии или капитализма, социализма или коммунизма, цивилизованного общества или общечеловеческих ценностей. Глядя к тому же на нарождающуюся исламскую империю (географическая удаленность и разногласия между ее субъектами в создавшейся «дуге» временны и относительны) или китайскую (коммунистическое идейное наследие играет в ней служебную роль), еще и еще раз убеждаешься в том, что «имперская тема» глубоко укоренена в человеческой природе и тем самым определяет (через активизацию или погашение высших или низших свойств этой природы и утверждение разнокачественных духовных целей и задач) «ход» истории и ее возможный «конец». Да и пророчимое ныне иными мыслителями, идеологами, политиками грядущее столкновение цивилизаций, если принять во внимание популярную гипотезу С. Хантингтона, может осуществиться лишь в форме имперского противостояния.
В свете обозначенных выше тенденций, актуальности имперской темы и, так сказать, перераспределения имперских амбиций уроки «длинной», объемной и одновременно предельно-конкретной тютчевской мысли трудно переоценить. Если, конечно, Россия собирается оставаться полноправным субъектом мировой истории на основе глубинного самосознания и разумной опоры на своеобразные достижения собственной цивилизации (с учетом столь же своеобразных провалов), а не иссякнуть и не раствориться, став поначалу объектом приложения сил и интересов других империй, незначительной фигурой на их шахматной доске. Пророча один из вариантов развития событий (к сожалению, актуальный и сегодня, но подлежащий пока еще трезвому осознаванию и исправлению), Тютчев писал 11 октября 1855 г. М.П. Погодину: «Теперь, если мы взглянем на себя, то есть на Россию, что мы видим?.. Сознание своего единственного исторического значения ею совершенно утрачено, по крайней мере в так называемой образованной, правительственной России». В другом месте он повторяет: «В правительственных сферах, вопреки осязательной необходимости, все еще упорствуют влияния, отчаянно отрицающие Россию, живую, историческую Россию, и для которых она вместе - и соблазн, и безумие...». Более того, он обнаруживает, что «наш высоко образованный политический кретинизм, даже с некоторою примесью внутренней измены», может окончательно завладеть страной и что «клика, находящаяся сейчас у власти, проявляет деятельность положительно антидинастическую. Если она продержится, то приведет господствующую власть к тому, что она (...) приобретет антирусский характер». Тогда России грозит опасность самоуничтожения от бессознательности, подобно человеку, который утратил чувство самосознания и держится на чужой привязи: «государство бессознательное гибнет...».
Между тем обозначенная иерархическая причинно-следственная связь разных уровней тютчевской мысли, действенное осмысление которой способно помогать преодолевать бессознательность в индивидуальной, общественной и государственной жизни, зачастую игнорируется исследователями.
Одним из последних и показательных примеров тому служит статья С.Г. Бочарова «Тютчевская историософия: Россия, Европа и Революция», посвященная выходу в свет третьего тома (с историософскими и публицистическими работами) Полного собрания сочинений и писем Ф.И. Тютчева и опубликованная в пятом номере журнала «Новый мир» за 2004 г.
Декларативно соглашаясь с Тютчевым в том, что Россия может погибнуть от бессознательности, и призывая к трезво-сознательному отношению к «нашей идейной истории», сам С.Г. Бочаров остается на оценочной почве и использует укороченную методологию. А какой материал для понимания и анализа только в приведенных выше цитатах о «высоко образованном политическом кретинизме» и «чужой привязи», не говоря уже о всей системе тютчевской мысли! Оказывается, что оценочный и аналитический подходы с трудом совмещаются, и в трактовке темы «Россия и Революция» рецензент упрекает Тютчева за отсутствие должной проницательности (при наличии огромного материала, свидетельств и фактов прямо противоположного свойства!). Более того, историософские построения поэта он вслед за французским дипломатом и публицистом XIX в. Полем де Бургуэном характеризует как «бредни (...) воистину исполинские». Какие уж тут трезвость и сознательность, если бредни, да еще исполинские?
Подспудный упрек в недостаточной трезвости и сознательности, адресованный Тютчеву, распространяется соответственно и на комментарии третьего тома, поэтому имеет смысл коротко отметить своеобразие собственно рецензионного компонента статьи С.Г. Бочарова, долженствующего ввести читателя в основную ее проблематику. Рецензент высоко оценивает включенные в третий том новые переводы, за которые, по его словам, «мы благодарны», отмечает «обширность и подробность», «серьезную обстоятельность» комментариев, составивших «целую книгу» о русском мыслителе. Однако ни идейно-политический, ни историко-литературный, ни текстологический (и т.д.) пласты этой «книги», ни ее внутренняя логика, ни анализ в ней принципиального иерархического соотношения христианской метафизики, духоно-нравственной антропологии, историософии и текущей социально-политической действительности, ни многие другие, освещенные в комментариях, темы тютчевских размышлений не затрагиваются рецензентом, что является, разумеется, его суверенным правом. Другое дело, что принципиальное внимание к этим сторонам, образующим текст, контекст и подтекст для вызывающих преимущественный интерес С.Г. Бочарова понятий «Революция» и «Империя» (у самого поэта акцент ставится не просто на империи, а на законной, «христианской» империи, между которыми, по выражению Пушкина, есть «дьявольская разница»), может как-то способствовать иному взгляду на причинно-следственную конфигурацию данных понятий и связанных с ними тем и проблем в русской и мировой истории и тем самым увидеть собственно тютчевские ответы на занимающие рецензента вопросы.
Адекватность комментариев косвенно признается С.Г. Бочаровым неточно использованным словом «апологетический», поскольку в них нет ни восхвалений, ни адвокатских интонаций, ни каких бы то ни было оценочных эпитетов, не говоря уже о превосходных степенях. (Единичный пример субъективной оценки в них оказывается ошибочным, когда рецензент пишет, что «комментатор с сожалением констатирует "не оправдавшуюся впоследствии закономерность"» в отношении российского Царьграда; однако если на самом деле данная констатация относится к комментатору, то сожаление принадлежит А. Ламартину; почему понадобилось соединить две отдельные позиции двух разных лиц в одну - не совсем ясно.) Стало быть, под апологетичностью следует разуметь, видимо, объективность комментариев, первая и главная задача которых - передача по возможности всей полноты и сложности комментируемого автора. Таковы условия жанра.
Однако С.Г. Бочаров полагает, что в комментариях должно присутствовать «проблемное заострение», рассмотрение того, как «злобная ирония истории» поработала с историософскими «грезами» Тютчева, обрушила и перевернула с ног на голову его «прогнозы» и «предсказания». Для заострения прогнозов и предсказаний поэта, если о них говорить не назывательно и описательно, но аналитично, понадобилась бы еще одна «книга», но уже в другом жанре (в комментариях подчеркнуто, что в задачу их автора не входит анализ того, какие пророчества поэта сбылись, какие еще не сбылись и какие сбудутся). Главное же не в этом, а в том, что вся целостная система тютчевской мысли представляет собой, если так можно выразиться, постоянно действующее пророчество, отвечающее на многие, в том числе «заостренные» рецензентом вопросы мировой и отечественной, прошлой и современной истории. Но эта система зачастую не улавливается, не артикулируется и даже сознательно или бессознательно редуцируется по самым разнородным (личностным, мировоззренческим, идеологическим, партийным, групповым - о них здесь не место говорить) пристрастиям, что вольно или невольно приводит к не вытекающим из нее «заострениям».
Вот и С.Г. Бочаров считает необходимым восполнить единственный, сформулированный им, пробел в комментариях - отсутствие «критического взгляда на тютчевскую систему мысли». При этом содержательный анализ ни составных частей системы (или хотя бы намеченной иерархии ее элементов), ни фундаментальных законов ее автора, им над собою признанных, по которым его и должно судить, словно не предполагается, не допускается. Более того, широкий горизонт и одновременно конкретно-предметный религиозный, антропологический, историософский (с «борьбой во всем ее исполинском объеме и развитии») текст и контекст в построениях поэта сокращаются до обозначения политико-идеологических проблем и констатации русско-советских и имперско-революционных метаморфоз отечественной истории, внутренние закономерности которых как раз и предсказаны им, но не замечаются рецензентом.
С.Г. Бочаров сравнивает публицистику Тютчева «с одной разветвленной мыслью, в которой есть звено центральное, тезис самый остро-ответственный, и этот тезис - "Россия и Революция"». Выделение из всей цепи, т.е. системы, одного звена, пусть сколь угодно важного и в каком-то отношении центрального, но составляющего лишь часть, которая не заменяет целого, а получает от места в нем свое истинное значение и подлинный смысл, можно уподобить сосредоточенности не на целом дереве «разветвленной мысли» поэта, а на ее самой крупной, бросающейся в глаза с определенной точки зрения, ветви, чье истинное или ложное цветение или увядание на том или ином этапе роста анализируется безотносительно почвы, корней, ствола, движения соков, окружающей среды... Своеобразный редукционизм очевиден и в выводе С.Г. Бочарова, что поэтическо-футурологические вопрошания о судьбе «Русской звезды», «русского моря» и «славянских ручьев» исчерпывают историософию Тютчева. Два места из русской поэзии вбирают в себя вопросы, заданные историософией Тютчева и, надеемся, историей «окончательно» нерешенные. Одно - из Пушкина:
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? Вот вопрос.
Второе из Тютчева:
Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?
Вот вопрос.
Однако историософией Тютчева заданы и вбирают в себя и другие, более фундаментальные вопросы, по отношению к которым этнические, этатистские или панславистские проблемы, не покрывающие всей системы его мысли, занимают подчиненное положение. Здесь вспоминаются слова И.В. Киреевского, что малейшее отклонение в прицеле кладет пулю в другую мету. Отклонение в прицеле укорачивающей и смещающей методологии (с цепи на звено, с дерева на ветвь, с целого на часть, с абсолютного на относительное, иерархически первостепенного на второстепенное) меняет перспективу всей системы, создает «оптический обман», приводит к не совсем верным умозаключениям об ущербности или непрозорливости «планов», прогнозов, «проектов» или «предсказаний» поэта.
Хотя С.Г. Бочаров справедливо заявляет, что Тютчев одним из первых не только у нас, но и в Европе так мощно понял Революцию не как лишь «политический факт, но как духовную силу, вступившую в историческую борьбу с духовной силой христианства и «перехватившую» у христианства его идеи и священные ключевые слова («братство») (...) первый у нас в своей философской с нею борьбе овладел пониманием размера и сущности этой силы». Но сразу же возникает вопрос, как в одной голове поэта-мыслителя может совмещаться столь мощное понимание такой исторической борьбы во всем ее исполинском размахе и развитии с историософскими «грезами» и «исполинскими бреднями»? Почему, как, в какой момент это мощное понимание глубинных и сложных процессов вдруг утрачивает «трезвость» и «сознательность» и начинает «пьянеть» и «бредить»? Возможно ли такое без шизофренического раздвоения личности и серьезной духовной болезни? Или именуемое «грезами» и «бреднями» есть на самом деле нечто иное, как-то связанное с тем же мощным пониманием?
Для ответов на подобные вопросы и для положительной или отрицательной оценки пророчеств стоило бы раскрыть конкретное содержание, основные этапы и внутреннюю логику никогда не прекращавшейся «исторической борьбы», показать вызревание, рост и укоренение революционных начал в процессе раскола Вселенской Церкви, противостояния «истинного» и «испорченного» христианства, соперничества «законных» и «незаконных» империй, взаимосвязи католицизма, протестантизма и атеизма и т.п., о чем сам Тютчев пишет достаточно много. Однако вместо этого, вместо освещения «исторической борьбы с духовной силой христианства» на протяжении веков, вплоть до сегодняшнего дня, речь заходит о «романтической спиритуализации» Революции. А таковая спиритуализация уже по определению несет в себе односторонность и чрезмерность и - еще одно противоречие - трудно соотносится с признаваемым за Тютчевым пониманием истинного масштаба и подлинного смысла Революции. Поэт увидел Революцию, замечает рецензент, как живое мифологическое существо. Один из наследников тютчевской мысли, Константин Леонтьев, даст позднее такое ей описание: «представление мифическое, индивидуальное, какая-то незримая и дальновидная богиня, которая пользуется слепотою и страстями как самих народных масс, так и их вождей для их собственных как бы сознательных целей. Дальновидная богиня! - Дальше видевшая, как окажется, автора "России и Революции"». Дальше ли? Вот вопрос. А как же тогда быть с декларированным пониманием размера и антихристианской сущности «незримой богини» в публицистике Тютчева? С его трезво-сознательным, но оставшимся вне поля зрения С.Г. Бочарова анализом именно «как бы сознания» Революции, ее непрерывной традиции и идейной истории, ценностей и героев, внутренних закономерностей развития и поворотных событий? С обозначением главных страстей не только вождей и народных масс, но и «идеологов» и «книжников», «интеллигенции» как орудий и точек приложения «адских сил» Революции?
Из раскрытой Тютчевым, зафиксированной, но никак не охарактеризованной вслед за ним и рецензентом революционной «глубины» с ее «адскими силами» последний делает скачок, словно сжигая этапы и опуская всю духовно-историческую борьбу, в область видимой части айсберга, переходит на поверхность социально-политических столкновений, выделяет одно из ответвлений и один из прикладных результатов в деятельности «незримой богини» - «терзающие Запад классовые войны». Поэт, пишет С.Г. Бочаров, теоретически заговаривал - заклинал эти войны, приравнял Революцию к судьбе Европы и отмежевал ее от судьбы России, которая в качестве наследующей Византии христианской империи (вместе с объединенным славянством Восточной Европы) должна ответить на вызов как революционной «глубины» и ее «адских сил», так и на их конкретные проявления и действия в определенных исторических обстоятельствах западных революций XIX в. Возможное образование подобной империи со столицей в Константинополе рецензент и называет «исполинскими бреднями», над которыми посмеялась «незримая богиня». По иронии истории «главная идея его [Тютчева. - Б.Т.] о России и Революции потерпела историческое поражение в 1917 году. Россия и Революция совместились, революция стала судьбой России. Славянской его идее еще предстояло дальнейшее испытание».
По мнению С.Г. Бочарова, в XIX в. «исторические и политические проекты» Тютчева наследуются «исполинскими бреднями» евразийцев, а также «той самой воплотившейся, но в отечестве революцией в лице СССР. Можно сказать, что идея отдельной Восточной Европы будет политически реализована после 1945 года - посредством Берлинской стены (...) Объединение с Россией на тоталитарной основе продолжалось с 1945-го до 1989-го (...) И что нам теперь делать с идеей славянского мира, глядя уже не только на Чехию, но и на Украину?». Вопрос, ответ на который (в числе прочих) можно поискать опять-таки с помощью Тютчева, если конечно, освободиться от тех или иных идеологических и партийно-групповых пристрастий, корректно соотнести собственную точку зрения с тютчевской, не прибегая к неправомерному методологическому укорачиванию, а вслед за тем неадекватному политическому осовремениванию его системы мысли, не переставлять в ней основные начала и соответственно не смещать его иерархию ценностей. Ведь ни идея самозамкнутого славянского мира и отдельной Восточной Европы в отрыве от православия (языческий отрыв меняет знаки в этой системе на противоположные), ни географический фактор евразийцев, ни тем более тоталитарная основа большевиков, последовательно, хотя и безуспешно, изгонявших христианство из жизни общества (и не допускавших, как верно, но снова противоречиво по отношению к собственным утверждениям об исторических «наследниках» поэта, отмечает рецензент, издания трудов своего «предтечи») никак не вытекают из историко-философских построений Тютчева. Более того, он едва ли не первым в «прошлом русской мысли», задыхаясь от бессильного ясновидения, пророчески предостерегал от неоязыческого развития «современной цивилизации» (в различных его вариантах), ее варваризации и бестиализации. Вот бы и сверить (а заодно и проблемно заострить) спустя полтора столетия его прогнозы «с нашими результатами». Разве ничего «не изменилось» и «не случилось» с тех пор?
Для обозначения тютчевских прогнозов и его ответов на заданные в статье С.Г. Бочарова, а также определенные теперешним ходом «современной цивилизации» вопросы важно - подчеркнем еще раз - по возможности полнее представить именно систему мысли поэта, а не оторванные от нее «ветви» и «звенья», что является необходимым шагом на пути трезво-сознательного к ней отношения, тем более что приходится сталкиваться с такими не совсем трезвыми, хотя, может быть, и сознательными проблемными «заострениями», в которых значения, смыслы и перспективы его идей изменяются до неузнаваемости, до противоположности. Яркий тому пример - статья В. Цымбурского «Тютчев как геополитик», в которой предпринята «психоаналитическая» попытка определить «супраиррациональное, второе дно» в его геополитических конструкциях. Поэт предстает в ней как мифотворец державной идеологемы, панконтинентальной «окончательной России», отождествляющей «волю к существованию» с «похищением Европы». С точки зрения автора, «проект Империи Востока под двуглавым орлом с Австрией, Германией и Италией как обращенными в Православие покоренными провинциями» является более чем экспансионистской утопией, его даже трудно сравнить с аппетитами Бисмарка или Наполеона III. Это фанатичный "Drang nach Westen", а его придумщик - «старший современник» большевиков, переключившихся с европейской революции на евразийский «социализм в одной стране» и ожидающих всеохватной европейской войны, когда под цивилизацией «провалится лед» и для Европы придет час нового порядка. Для В. Цымбурского историософия Тютчева не что иное, как «потеха победительного семантического мошенничества», а драма смыслов в ней переходит «в фарсовый регистр», когда «христианство приравнивается к «европеизму», чтобы Православие предстало единственным истинным европеизмом, а весь христианский ареал - «Россией будущего»».
Разнообразные причины столь «острых» и «проблемных» истолкований, когда стремившийся к «только правде, чистой правде», озабоченный духовным состоянием человека и нравственным смыслом истории мыслитель оказывается семантическим мошенником, эдаким иезуитом-фарисеем, использующим религию в качестве подсобного средства для достижения политических целей, а вынужденная многими столетиями защищаться от агрессий мирового масштаба страна выставляется как неисцелимый захватчик; «похищения России» же трактуются как «похищения Европы», требуют отдельного разбора (кстати, его активным соучастником мог бы стать и Тютчев, размышлявший над природой подобных интерпретаций). Но и вовсе не предвзятые, стремящиеся к объективности авторы невольно сдвигают истинную конфигурацию тем и проблем в историософской публицистике поэта, находят в ней сочетание (логически и духовно-психологически трудно совместимое и даже взаимоуничтожаемое) реализма, зрячести, прозорливости и «мифотворчества», «иллюзий», «утопизма», если отсекают ее православный фундамент.
И.С. Аксаков приходил к безоговорочному выводу, что в философско-историческом миросозерцании Тютчев «был христианин - по крайней мере, таков был его Standpunkt» (позиция, точка зрения - нем.). Между тем именно этот Standpunkt, без учета которого неадекватно раскрываются такие значимые для поэта понятия, как «империя», «революция», «монархия», «демократия», «общественное мнение», «Россия», «Запад», «славянство», «православие», «католицизм», «протестантизм» и др., обычно либо сокращается, либо удаляется на задний план, истолковывается в качестве элемента строительных лесов и материала для мечтательно-агрессивной утопии. В лучшем случае христианство в философско-историческом миросозерцании Тютчева воспринимается многими современными исследователями пусть важной, но не основополагающей, а вспомогательной частью сугубо державнической идеологии. Тогда государственная, общественная или идеологическая проблематика в его построениях рассматривается, как правило, язычески-обособленно, вне глубинного христианско-антропологического контекста, что приводит не только к «семантическому мошенничеству» (если воспользоваться приведенной выше лексикой), но и к невольному укорачиванию в них «длинной» мысли и полномасштабной логики. Тогда в историософской публицистике Тютчева главные и второстепенные, ведущие и подчиненные уровни меняются местами, а из ее целостного состава и уходящего за обозримые пределы горизонта вытягиваются, отделяются и абсолютизируются этатистские или этнические, панславистские или экспансионистские или какие-нибудь иные «нити». Тогда и возникают в ее оценках и выставляются центральными геополитические «заострения» и политические «проблемы», обнаруживаются в ней «иллюзии», «мифотворчество», «утопизм».
Однако можно полемически утверждать (о чем подробнее будет сказано ниже), что определяемые Standpunkt'oм «мифотворчество», «иллюзии», «утопизм» и служили основой как для пророческой прозорливости поэта в целом, так и для его конкретных предсказаний. Сам он подчеркивал, что «исконно православное, христианское учение» есть «единственно-руководящее начало» в «безысходном лавиринфе» коренных жизненных противоречий. Благодаря этому началу высший реализм тютчевской метафизики и метаистории обретает ныне особую актуальность, когда «прагматики» (архитекторы и прорабы «социалистического», «капиталистического» или «глобалистического» Вавилона, новой Европы, новой России, новой Евразии или нового мирового порядка, общечеловеческой цивилизации и т.д. и т.п.), уповающие на науку или экономику, частную или государственную собственность, очередные информационную или биологическую революции, «шведскую» или «американскую» модель социального устройства, склонны «укорачивать» и утопически игнорировать решающую роль духовно-нравственных законов исторического бытия, столь же неуклонных и неотменимых, сколь и физические. И в данном отношении подлинно реалистическое значение целостной системы тютчевской мысли - ее иерархической структуры, внутренней логики, конкретного содержания - может быть подчеркнуто словами Гоголя, писавшего о «высшей битве» в современной цивилизации не за временную свободу, права и привилегии, а за человеческую душу, ибо отсутствие света не заменят ей никакие конституции, для ее исцеления важно вернуть забываемые и отвергаемые христианские святыни.